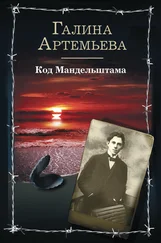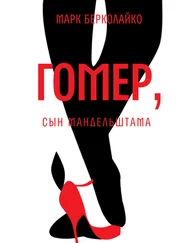И здесь мольба‐требование: запихай, уведи. Кому‐то покажется странным обращение к убийце (ведь говорится о «кровавых костях в колесе») с мольбой избавить его – нет, не от участи – от созерцания «хлипкой грязцы» (тут под всхлипы и сопли, и кровь, и всякие пыточные выделения), собственно, мольба о легкой смерти («уведи меня в ночь»). Но кого еще о ней молить, как не того, кто волен казнить и миловать. Да, мольба о смерти, но как о ссылке на блаженные острова, где герои и поэты, причастные славе, коротают божественное бессмертие, потому что он из той же породы блаженных, он не волк по крови своей, и убить его может лишь равная ему высшая сила. Вот такое «моление о чаше». Как будто Мандельштам знал о будущей резолюции Сталина на его деле, отправляющей поэта в ссылку: «изолировать, но сохранить». И даже место (Чердынь) было выбрано не так далеко от великих сибирских рек (Енисей, правда, далековато, но Обь и Тобол поближе). И в этой мольбе вождю‐отцу народов спрятать его в русский сказочный рай, сибирский ночной элизиум, где вечно сияют голубые песцы в своей первозданной красе, и сосна до звезды достает 472, есть интонация интимной близости к высшей силе («и меня только равный убьет»).
Черновики стихотворения убедительно включают его в контекст тем «Сохрани» и «Неправды». Последняя строка звучала: «И неправдой искривлен мой рот». Был и такой вариант последней строфы (в перехлест с «Неправдой»):
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
К шестипалой неправде в избу
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу 473.
Ночь, где течет Енисей, тот самый русский элизиум, оборачивается избой шестипалой неправды…
«Неправда», «За гремучую доблесть», «Сохрани», «Мы живем, под собою не чуя страны» и др. стихи начала тридцатых годов связаны единой, фольклорной поэтикой, в ее рамках жестокая сказка, страшный сон и фантастически жуткая явь завязаны русской речью в единый узел. И неслучайно «Мы живем, под собою не чуя страны» Ахматова назвала монументальным лубком. Его элементы возникают сразу по возвращении в Москву из Армении в 1930‐м, когда поэт обнаружил – нельзя сказать, что уж совсем неожиданно, – что он живет в мире упырей, и ему здесь не место. Он слышит себе вслед, то ли сам себе шепчет:
Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, —
Старый повытчик…
Командировку в Армению «по культурным делам» Мандельштаму организовал Бухарин, и поэт мог чувствовать себя «чиновником по особым поручениям», отсюда «повытчик», и даже «чудный чиновник без подорожной». Но и острог у него теперь завсегда «в уме»: «командированный к тачке острожной, он Черномора пригубил питье…» 474. Тут дорожный указатель на Пушкина, что «на пути к Эрзеруму» решил пригубить питье сказочного Черномора, и появляется басенная мешанина людей и зверей («были мы люди, а стали людье»):
И по звериному воет людье,
И по‐людски куролесит зверье.
Тут как тут и фольклорные мотивы смерти:
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
Стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» (декабрь 1930‐го) – это возвращение на пепелище. «Петербург! Я еще не хочу умирать…» – возглас обреченного. И в последних строчках он ждет в гости всякую нечисть:
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Петербург связан со смертью («В Петербурге жить – словно спать в гробу»), но и в «курве» Москве не спасешься:
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет.
В 1930‐ом пишется отчаянная, клокочущая, ерническая и язвительнейшая «Четвертая проза». Тоддес отмечает в ней «Комплекс жертвоприношения» («На таком‐то году моей жизни бородатые взрослые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож») и лексическую установку «на просторечие и бранную экспрессию», что стало «новацией “возобновленной” лирики 1930–1931 гг. (в «Дикая кошка – армянская речь…» и общий гротескный рисунок сравним со стилем «Четвертой прозы»)» 475. В этом тексте выплеснулась вся его чужеродность. Отторжение было столь гневным, что он даже вспомнил о своей крови «царей и патриархов» и сравнил свое отчуждение с вечным еврейским – от чего убегал всю жизнь. Никто и никогда в русской литературе не выливал на «писательское отродье» столько желчи:
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)