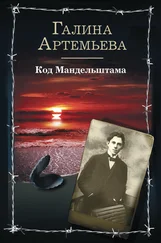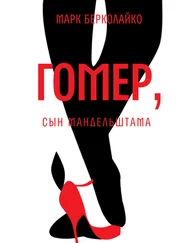В стихотворении «Мы живем под собою не чуя страны» тоже возникает тема «речи», во многом сходная с «Сохрани»: в стране только один хозяин речи, и его слова «как пудовые гири верны», все остальные обречены на молчание‐мычание («Наши речи за десять шагов не слышны») 466. Да и у самого хозяина речь какая‐то нечеловеческая, он «бабачит и тычет», а его сподвижники «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет». Тоддес пишет, что в «Четвертой прозе» «нарушение языкового контакта “я” с “новым миром”» иллюстрируется «трагикомической китайщиной: халды‐балды (отмечено у Даля в статье «Халда»), хао‐хао, шанго‐шанго » 467. То есть имеет место некая утрата языка, а с ним и утрата истории («Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории» 468.) В таком контексте особое значение обретает мольба о сохранении речи. «Я чувствую почти физически нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова», поэт прозревает наступающий голод нового государства на культуру, на слово, то есть, если вовремя подсуетиться, то можно овладеть ситуацией: «Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник евхаристию, – будет вторым Иисусом Навином». Мандельштам готов предложить государству свою великодушную помощь не только в качестве эксперта и советника, но, бери выше, в качестве священника, окропляющего новый тип «взаимоотношений, связывающих государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета». По мнению Тоддеса, у Мандельштама сочетается
понимание революционного государства как врага слова и императив жертвы («путь и подвиг») во имя ценностей «нового мира», которые поэт должен обогатить словом и культурой.
«Именно в этих построениях, – поясняет исследователь, – <���…> исток позднейшего мотива «охраны», «обороны» поэтом «народного вождя» («Художник, береги и охраняй бойца» в оде Сталину, «И мы его обороним» в «Стансах» того же 1937 г.) 469.
Сталин вторгается в тексты Мандельштама по возвращении поэта в 1930 году из Армении (хотя и в Армении мысли о нем не покидали поэта: «ассириец держит мое сердце»). И тогда же приходит осознание, что новая жизнь – надолго: «Молодых рабочих татарские сверкающие спины…/ Здравствуй, здравствуй, могучий некрещеный позвоночник,/ С которым проживем не век, не два!» Это из стихотворения 31‐го года. «Татарвой» он называет народ и в «Сохрани» (друга и отца он бы так не назвал). И тогда же появляется стихотворение «Неправда» о «вхождении» в новую жизнь, что сравнивается с глухой русской избой, обиталищем Неправды: «Вошь да глушь у нее, тишь да мша, – полуспаленка, полутюрьма…», она же и гроб сосновый, и творятся там дела жуткие:
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из‐под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
Стихотворение написано в фольклорной, сказочной манере. Вот его начало:
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай‐ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
Поэт как бы приглядывается к внезапно открывшейся ему русской жизни, осваивается в этом аду, где ему «все‐таки до смерти хочется жить» 470, хотя суждено умереть. Трудно не почувствовать в этих строках тот же, что и в «Сохрани», мотив отчаянного приятия российского ужаса, жизни‐неправды. Это приятие ужаса как нормы жизни, на которую он обречен, и толкает его в сторону фольклорного сказа, к стилистике страшной сказки.
В «Неправде» впервые появляется и намек на отца, хозяина этого народа, его языка и всех речей – Сталина: неправда названа шестипалой. Было ли у Сталина на ноге шесть пальцев никто, наверное, точно не знает, но миф об этом был распространен, и поэт за ним последовал 471.
А чуть раньше, но в том же 1931‐ом году, он пишет этапное (предчувствовал – загреметь ему по этапу) стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков» – тоже обращенное к Сталину.
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.
Мне на плечи кидается век‐волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)