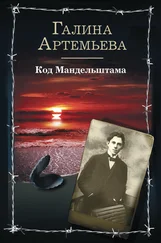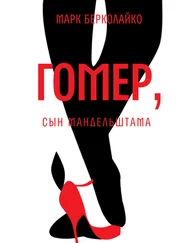Не только Булгаков и Мандельштам приняли дьявола как силу, творящую благо, не они одни согласились на участие в этом «зловещем маскараде», (как тут не вспомнить пляску опричников в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный»), это был путь сдачи и гибели большинства оставшейся при Советах русской интеллигенции. Кто раньше, кто позже, кто лицемерно, кто в экстазе самообмана. И все эти муки сомнений не ускользнули, полагаю, от внимания мудрого Вельзевула…
Мандельштам в «Четвертой прозе» упрямо взбрыкивает против упряжки нового мира («все равно никогда я не стану трудящимся») и ернически повторяет формулу сосуществования с ним: «Я моментально соглашаюсь, но тотчас, как ни в чем не бывало снова начинаю изворачиваться – и так без конца». Тут и ироническое признание своей вины за все эти «сделки»: «Я виноват, двух мнений быть не может. Из виноватости не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь». А ворожба поэта – «прививка от расстрела»…
Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть: «Не расстреливал несчастных по темницам».
Однако жить можно было лишь «большевея». А стало быть, надо от старого мира отречься. В марте 1931 года он пишет «За гремучую доблесть грядущих веков…» – первое стихотворение страшного выбора: пусть кругом ужас и смерть, и я всего лишен, но я хочу жить, а жизнь – это Сталин 481. Принимается и неотделимый от этой жизни острожный слог и напев.
Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто‐то чудной меня что‐то торопит забыть.
Душно – и все‐таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
(март 1931)
Последняя строка первой строфы и есть новая формула выхода к жизни. И, конечно, не только о физической жизни речь, но и, прежде всего, о жизни творческой, жизни слова. Здесь характерны наречия «дико и сонно»… И в следующем стихотворении «За гремучую доблесть…» он, отрекшийся от «чаши на пире отцов» и от «чести своей», уже молит о спасении. Кого? Кто может спасти? Только чудо. «Кто‐то чудной». Только «рябой черт», пахан сказочной нечисти может сотворить это чудо. «Волк» и «век‐волкодав» появляются тут не только в связи с отречением от «отцов» и от «чести своей», но и с уверением в благонадежности: волки – это неблагонадежные (простой русский народ), получившие «волчий билет», и век‐волкодав кидается им на плечи, а волкодав, как остроумно заметил Семен Липкин, – помощник чабана. И возглас «но не волк я по крови своей» означает: не тронь, я свой, а если еще не совсем свой, то исправляюсь, стараюсь! И первобытная краса сияющих всю ночь голубых песцов – мир сказочный, завороженный, и только сочинитель этой сказки равен ее хозяину, главарю нечисти, к нему и мольба: «Уведи меня…»
В «Неправде» герой окончательно входит в эту страшную сказочную избу, и последняя строка («Я и сам ведь такой же, кума») – признание, что отныне он такой же полноправный член этого мира, причем с «правильной стороны», он теперь тоже «кум», а шестипалая неправда ему кума. Миф о шестипалости Сталина смешивается с народными верованиями в уродство как сатанинскую печать и знак силы. И не забудем, что на лагерном жаргоне «кум» это легавый, мент, а то и «начальник» 482, то есть вполне себе штатный волкодав.
Мандельштам не рос в атмосфере русского фольклора, няня из деревни не рассказывала ему на ночь страшные русские сказки, его погружение в этот сказочный мир опирается на литературные образцы, на пушкинскую традицию «страшных снов» и, прежде всего, на «сон Татьяны». Этот таинственный фрагмент некоторые считают 483«нервным узлом» романа «Евгений Онегин».
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена…
Сон – система символов. Снег, сугроб, лед, мгла, зима. В сновидениях у Пушкина это образ России, и он связан со смертью. «Страшно, страшно поневоле/Средь неведомых равнин! /…Бесконечны, безобразны, / В мутной месяца игре / Закружились бесы разны…» 484Марье Гавриловне из повести «Метель» снится, как отец, пытаясь воспрепятствовать ее соединению с суженым, «останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье… и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца». Метель и зима сопровождают и сон Гринева в «Капитанской дочке»: «Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне…», и этот сон кончается кошмарным смертоубийством. Мандельштам заимствует этот образ России и русской культуры как тягостной, смертельно опасной зимы 485. Татьяна во сне пробирается сквозь метель, спасаясь от зимы‐смерти, и ручей в ее сне как мифическая река – водораздел, граница, отделяющая от потустороннего мира, живых людей – от нечисти. Татьяна хочет его перейти («Как на досадную разлуку,/Татьяна ропщет на ручей»), но боится, не может.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)