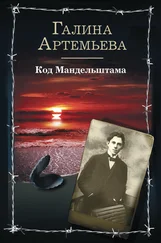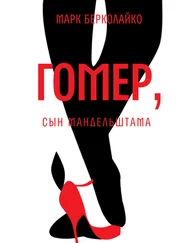Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки! <���…> Писательство – это раса <���…> кочующая и ночующая на своей блевотине… но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам… Писатель – это помесь попугая и попа.
И вся ярость и презрение в этом тексте – именно советским писателям, советскому быту и советским бонзам.
Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове… поставить перед каждым стакан полицейского чаю… Этим писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей… – ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать – в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед.
Эти литераторы «на цыпочках ходят по кровавой советской земле», по этому царству страха, среди доносов и казней, ставших бытом:
Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве‐реке… – таково священное правило самосуда. Приказчик на Ордынке работницу обвесил – убей его! Кассирша обсчиталась на пятак – убей ее! Мужик припрятал в амбаре рожь – убей его! 476
И тут как тут появляется Сталин в образе фольклорного «рябого черта», коему все запроданы. И вновь – указание на Пушкина, как на первоисточник будущих видений поэта:
«Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта… с парным для него из той же бани нечистым – московским редактором‐гробовщиком, изготовляющим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном газетным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески‐греческие названия: январю, февралю и марту. Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и рад‐радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи».
Тоддес справедливо видит в редакторе‐гробовщике портрет Сталина: «в частности, радость при виде крови предвосхищает строку “Что ни казнь у него – то малина”», а брызжущая фонтаном черная лошадиная кровь эпохи – «трансформация мотива, введенного в “Веке”: “Кровь‐строительница хлещет / Горлом из земных вещей” 477. Добавим сюда «шелестение газетным саваном» и не забудем, что Сталин «как политик был прежде всего редактором подготовленного для утверждения текста» 478…
«Здесь, как в пушкинской сказке» – это в советском мирке, мутном, будто во сне, где «непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса», где царит басенная нечистая сила 479. Вспомним эту пушкинскую сказку‐балладу «Гусар» (1833), где гусар, хватив бесовского зелья, куда‐то летит, а затем падает наземь:
Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают 480.
Картина советской жизни у Мандельштама – бесовский праздник, бал у Сатаны. А вот и о сделке с дьяволом, за годик до «Сохрани»!
…я откуда‐то сбежал и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. <���…> меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нет силы. В карманах – дрянь: прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса… я подписал с Вельзевулом… грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанный горчицей с перцем, наждачным порошком…
Фантасмагория действительности и сказочность сюжетов напоминают «Мастера и Маргариту» Булгакова, и в основе – договор с Вельзевулом‐Сатаной. И неважно, кто у кого и что позаимствовал, но Сталин‐Вельзевул был их общей судьбой и общим литературным героем. Оба в отношении к нему совершили похожий поворот от враждебного неприятия к формуле Гете, которую Булгаков вынес в эпиграф к роману: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Булгаков начал писать роман примерно в то же время, что и Мандельштам «Четвертую прозу». И в том же 1930‐м году Сталин в ответ на письмо позвонил Булгакову, и в результате этого личного контакта судьба Булгакова переменилась. Булгаков с Мандельштамом позднее жили в одном доме, соседствовали… Игорь Волгин в замечательной работе «Булгаков и Мандельштам: попытка синхронизации» отметил множество перекличек и совпадений в конкретных фрагментах текста, в литературных замыслах и в судьбе обоих: «Булгаков прямо говорил, что прототипом Воланда является Сталин». И в романе «единственным действительно положительным персонажем оказывается дьявол». Как и в известных анекдотах‐новеллах Булгакова о Сталине, там «царит… дух безумного и зловещего маскарада», напоминающего сцену в горнице кремлевского горца у Мандельштама.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)