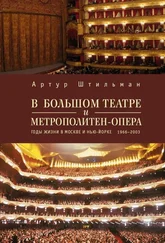Еще раньше, лет в 15, ходила с братом на семинары по истории, которые вел его приятель Лев Евгениевич Утевский. Он и его друзья решили изучать историю по книгам, изданным до 17-го года. Сначала это были дружеские вечеринки, приуроченные в целях конспирации к чьему-нибудь дню рождения, по типу польских «летучих семинаров» [127]. Через несколько лет они переросли в еврейский семинар. В это время я уже жила в Москве и была занята своей жизнью. После того как у меня родился сын, перестала посещать эти семинары, не хотела рисковать. Во внешнем мире все было очень советское, но было много домов, где жизнь развивалась в совершенно независимую сторону.
Я надеялась, что строчки, которые ко мне приходили, это возрастное – в юном возрасте все пишут стихи. Я ничего не записывала, и вообще тогда считалось (не знаю, кто это придумал), что поэзию создает метафора, а метафору специально не придумать, она просто случается. А если не случается, то и о чем разговор. Довольно долго я жила с этими химерами в голове. Вышла замуж в Москву в 18 лет, муж мой – ну конечно же! – был музыкант, учился в Консерватории. Пожила там, потом вернулась в Питер, поступила в университет. На третьем курсе родился сын, и, когда ему исполнился год, а мне – 23, мы сняли дачу-времянку в бывшей финской деревне Каннельярви, под Питером. Поселок в лесу в несколько домов, от Зеленогорска надо было ехать на поезде-подкидыше, колодец далеко, магазина нет. Сын уже ходил, но это по паркету и асфальту, а тут везде корни, неровности, и он падает и расстраивается. На дачу мы выехали в конце мая, и вдруг пошел снег, в Питере такое бывает. Надо топить печку, ездить на поезде за едой, варить, стирать – это материнство еще до памперсов. В общем, моя жизнь очень усложнилась. Не было времени читать и вообще на себя ни секунды времени, постоянная усталость. Муж не помогал, готовился к конкурсу «Пражская весна» [128], уходил с раннего утра заниматься в лес и с неуемной страстью собирал грибы. Соседи-дачники приходили восхищаться грибами, и он удивлялся, что я не бегу их чистить. Отношения стали портиться, хотя теоретически мой бывший муж поддерживал меня в желании писать.
Однажды возвращаюсь из Зеленогорска, выхожу из электрички, в одной руке годовалый сын, в другой – увесистая сетка с едой. Иду от станции к своей времянке через зеленую поляну, и вдруг – бум! – в голове метафора. Это было странно. Решила не зарывать свой дар в землю, стала записывать, дописывать. Этим стихотворением «с метафорой» открывается моя первая книжка, но до нее еще очень далеко [129]. Поскольку я была «хорошая Маша», то доделывала все до конца, трудилась над каждой строчкой, ведь учили «работать над словом». Хотя уже читала Хармса, обэриутов, Платонова, Бахтина, авангардом интересовалась, Крученых, Еленой Гуро, очень ее люблю, – и вообще могла бы быть умнее. Писала все время, но стихов – продукта! – получалось немного из-за недостатка времени и дисциплины. Потом, когда случались периоды свободного времени, на даче например, писала больше. Или в домах творчества, их много в Америке. Но это случалось редко в моей жизни. Первых стихов не помню и не имею, недавно стала что-то вспоминать. Долгое время самооценка была на нуле, ужасная неуверенность в себе, ниже не бывает, возможно, это как-то компенсировалось независимостью, чувством собственного достоинства, но был какой-то конфликт. Когда начала регулярно писать, заметила, что мне стали мешать чужие стихи в голове, и я их постепенно как-то вытеснила.
С кем из поэтов вы тогда общались? У вас есть поэтические учителя?
Я думаю, что учителями можно восхищаться, обожать их, подражать им, но научиться у них можно только тому, чего не надо делать. Что и как тебе писать – этому никто не научит. Больше всего мне приходилось преодолевать звучание в голове Цветаевой и Бродского, оба очень сонорно сильные. Но вообще-то подражание – это нормально, это первая фаза творчества, как фаза зеркального отражения для ребенка [130]. Позднее, в семидесятые годы, стала внимательнее относиться к таким поэтам, как Генрих Сапгир, Сева Некрасов, они занимались очень полезным делом, деконструировали пафос – всякий, официальной героики и неофициальной оппозиции. Художники соц-арта тоже с успехом этим занимались в визуальном исполнении. Но я никогда не была литературоцентрическим человеком, дружила больше с музыкантами и художниками, чем с поэтами. Не знаю почему. Есть феминистское объяснение, в которое я верю, что мужской, групповой, иерархический тип творчества и конкуренции, то есть с командиром-капитаном, женщинам не подходит. История русской поэзии только подтверждает правило, что женщина может войти в мужское общество, если она член семьи, жена, сестра или дочь. Остальные бродят как одинокие гармони. Среды женщин-поэтов тогда еще не было, гендерного сознания тем более. Стихи Лены Шварц я читала в самиздате и несколько раз говорила с ней по телефону, но так и не смогли договориться повидаться в Ленинграде, виделись уже в Нью-Йорке. Мы одного года и места рождения – Лена Игнатова, Лена Шварц и я. Тогда я не могла бы этого сформулировать, но остро ощущала, что гендерная ситуация была не в мою пользу – как в семье, так и везде. Женщине в это время в России было много труднее состояться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


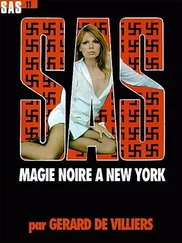
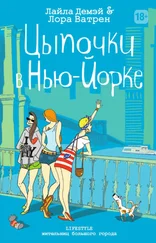




![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)