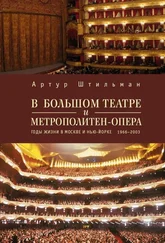Сколько вам тогда было лет?
Четырнадцать. И повезли на такси в «Асторию». Вдали виднелось Адмиралтейство. Мы въехали на Исаакиевскую площадь, вошли в гостиницу. Это было, пожалуй, самое сильное впечатление от любого города в моей жизни, даже Париж такого впечатления на меня не произвел, потому что я ничего даже отдаленно похожего раньше не видел. «На Земле была одна столица, / все другое – просто города», – как сказал, кажется, Адамович [513]. Я очень люблю эту фразу и всегда ее повторяю. Понимаете, если вас привезут в Нью-Йорк на вертолете и сразу поставят перед Рокфеллеровским центром…
Минуя метро, с воздуха?
Да, минуя метро. Если вас какая-нибудь фея сразу поставит перед Рокфеллеровским центром, то это, пожалуй, ничего. Но когда въезжаешь в Нью-Йорк через тоннель, потом долго-долго едешь по Манхэттену – все это трудновыносимо. К сожалению, от Нью-Йорка я ожидал намного большего. Я не думал, что увижу здесь рай земной, – напротив, готовил себя к тому, что буду безработным; может быть, мне придется ночевать под мостами, подметать улицы, в лучшем случае работать водителем грузовика. Но я действительно был уверен, что лучше водить грузовик в Америке, чем жить в Советском Союзе.
Водить грузовик в Нью-Йорке?
Где угодно, лишь бы не в Советском Союзе.
А работать кондуктором в нью-йоркском метро?
И кондуктором в метро – лишь бы не в Союзе. Так я его тогда ненавидел. Хотя сейчас у меня иногда появляется даже какая-то ностальгия по тем временам, то есть по молодости.
Из американских городов мне, скорее, понравился Сан-Франциско. И Беркли. Тоже нечто странное и непонятное, такой как бы курортный городок вроде Паланги, увеличенной в тысячу раз. Но там жить можно. Поэтому, когда я увидел задворки 42-й улицы в Нью-Йорке, меня стало подташнивать.
В интервью с Валентиной Полухиной вы сравнили поэтику раннего и позднего Бродского соответственно с архитектурой Петербурга и Нью-Йорка [514].
Да, с архитектурой Нью-Йорка, в которой царит хаос. Поздний Бродский отличается от раннего примерно так же, как Нью-Йорк от Петербурга.
Но это не значит, что от позднего Бродского вас подташнивает?
Не подташнивает, но я предпочитаю его ранние стихи до эмиграции (или ранних лет эмиграции). Больше всего у Бродского я люблю «Сретенье», «Натюрморт» – этот период. Или ранние эмигрантские стихи из «Части речи» или «Урании». Совсем поздние его тексты я плохо воспринимаю, они для меня скучноваты, часто не очень понятны, немного хаотичны, хотя я признаю, что поздний Бродский – поэт невероятного мастерства. Кстати, когда я сказал ему, что люблю «Сретенье», он заявил: «Ну это киндергартен».
Есть ли какой-нибудь эпизод, приключившийся с вами в Нью-Йорке, – такой, который вам было бы трудно себе представить в другом месте?
В Нью-Йорке меня поразили телефонные автоматы, из которых – прямо с улицы – можно было позвонить в Европу. Причем не только ты мог позвонить, но и тебе могли позвонить в такой автомат из Европы. Не помню с кем, но с кем-то я таким образом разговаривал. Я шел по Нью-Йорку со Штромасом и сказал ему, что мы находимся в романе братьев Стругацких, Штромас согласился. Это было в самом начале моих нью-йоркских приключений. Наверное, такие телефоны есть (или были) и в других городах, но меня они потрясли именно в Нью-Йорке.
Если не ошибаюсь, у вас есть два стихотворения о Нью-Йорке: «Эмигрантка» и «Anno Domini 2002». О ком первое из них?
Об Иде Крейнгольд, моей близкой знакомой по Вильнюсу. Одно время в Вильнюсе существовало так называемое «комсомольское кафе», главой которого была Ида. Туда приезжал читать стихи Вознесенский, там устраивались какие-то джазовые концерты, я и сам там читал по ее приглашению. Где-то через полгода это кафе закрыли, потому что поняли – все идет не туда. А хотели сделать такую альтернативу площади Маяковского и другим диссидентским сборищам [515]: пусть, мол, будет кафе, где под нашим надзором вы будете читать что хотите, лишь бы это не было запрещено.
В какой-то момент мы с Идой практически одновременно задумались об эмиграции. Она была замужем за известным тогда в Литве художником Владисловасом Жилюсом. Когда в Вильнюс приезжал Нортон Додж, он купил у него одну картину (кажется, за 300 долларов, что тогда нам казалось огромной суммой). Жилюс женился на Иде как на «средстве передвижения» (поскольку сам был литовец), но их брак перерос в настоящий. Они уехали. Перед отъездом Ида очень нервничала, боялась, что их не выпустят и так далее. Мы поссорились, в Нью-Йорке мирились и опять ссорились. Жилюс продолжал творить свои картины, которые плохо продавались, а Ида устроилась работать клерком не более и не менее как во Всемирный торговый центр. Там мы снова встретились и впервые за три-четыре года поговорили по-дружески. Они устроились где-то в Бронксе, и вроде бы все было неплохо. После этого я снова долго ничего об Иде не слышал, а потом узнал, что она умерла от рака легких – умерла тяжело.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


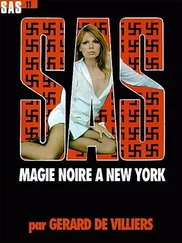
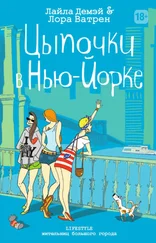




![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)