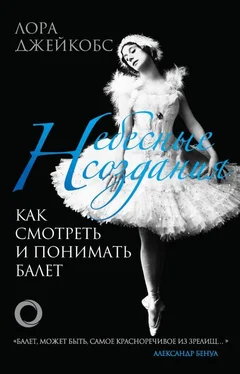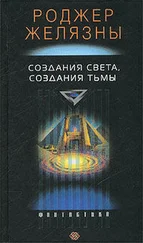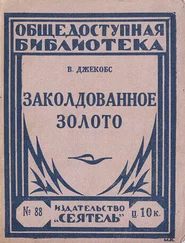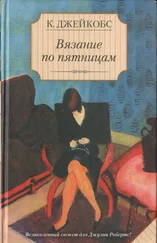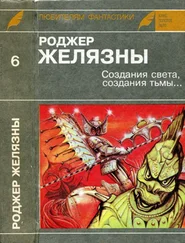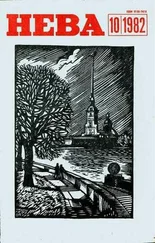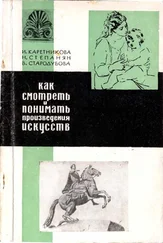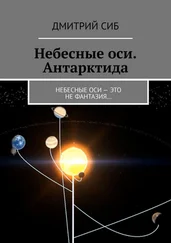В октябре 1942 года, через полгода после весенней премьеры «Огненного столпа», вышел еще один балет, не похожий на все созданное ранее. Это была постановка «Русского балета Монте-Карло» – наследника «Русского балета» Дягилева (который был распущен после его смерти в 1929 году). Хореографом балета стала уже упоминавшаяся Агнес де Милль, дочь драматурга Уильяма С. де Милля и племянница Сесила Б. Демилля [41] Встречается два написания этой фамилии – де Милль и Демилль.
, знаменитого кинорежиссера, одного из ранних гениев Голливуда. Де Милль родилась в Нью-Йорке и выросла в Лос-Анджелесе, тоже училась в Лондоне у Рамбер, хорошо знала Тюдора и еще лучше – Марту Грэм. Она много лет была простой солисткой и не могла пробиться выше, ставила художественные танцы в разных стилях, прежде чем ее незаметное присутствие стало незаменимым. Ее звездный балет назывался «Родео». И хотя больше всего она прославилась своим участием в бродвейских мюзиклах («Оклахома!», «Карусель», «Бригадун»), она осталась верна классическому танцу.
«Родео» – балет о ковбоях, их возлюбленных и неуклюжей девушке, которая объезжает лошадей вместе с мужчинами, чтобы быть рядом с любимым. Музыку заказали Аарону Копленду, и она стала одним из трех его бессмертных сочинений для балета, написанных в те годы (другие два – музыка для балета «Билли Кид» Юджина Лоринга (1938) и «Весна в Аппалачских горах» Марты Грэм (1944)). Необузданная и задумчивая, это была музыка равнин и громовых раскатов. А де Милль словно скакала сквозь годы на Запад своей юности – не просто в мифический край бескрайних просторов и неба, а в Голливуд, где родилась новая форма искусства – комические немые короткометражки, вестерны Сесила Б. Демилля. Она выросла на этом кино. В «Родео» де Милль объединила подъем и воздушность классического танца с земной простотой и остроумием. Она использовала «высокое» и «низкое» в балете в новой пропорции, и это наделило ее жесты весом и усилило их: некоторые моменты этого балета настолько эмоциональные, что напоминают кинематографический крупный план, но без камеры. Таким стал новый балет. Что до балерины-наездницы – девушки в сапогах и комбинезоне – она заняла собой всю сцену: скакала и ходила колесом, неслась галопом и плюхалась с лошади, распластавшись на земле. Она падала, как Избранница Нижинского – только, в отличие от Избранницы, эта героиня научилась распоряжаться своей судьбой. Упав, она поднимается неловко, кривоного – и снова в седле.
Теперь давайте забежим еще вперед и перенесемся в балет послевоенный. В годы становления «Нью-Йорк Сити Балет», в 1950-е, Избранницу возвели на престол, объединив ее с Музой. Практически с самого начала карьеры источником идей и вдохновения для Баланчина становились его балерины – можно сказать, он практиковал серийную моногамию. Были ли они его женами, любовницами или просто объектами обожания (не всегда взаимного), Избранницы его сердца вдохновляли Баланчина на хореографические изобретения и инновации, и каждая соответствовала определенному периоду его творчества, короткому или длинному, поверхностному или глубокому. Тамара Жева. Александра Данилова. Вера Зорина. Мари-Жанна. Мария Толчиф. Танакиль Леклерк. Дайана Адамс. Аллегра Кент. Сьюзен Фаррелл. «Когда Баланчин был влюблен, – вспоминает танцор “Нью-Йорк Сити Балет” Эдвард Виллелья в своей автобиографии “Блудный сын”, – когда он творил для музы, студия – да и весь театр – купались в золотом сиянии». Это не значит, что для Баланчина существовали только женщины, к которым он испытывал влечение. Он создал прекрасные роли для Патрисии Уайльд, Мелиссы Хейден, Виолетт Верди, Патрисии Макбрайд, Кей Маццо, Карин фон Арольдинген и Меррилл Эшли. Он также жил с памятью о двух женщинах: его холодной равнодушной матери Марии и импульсивной однокласснице Лидии Ивановой, погибшей в юности. Но, как сказал Баланчин своей подруге Люсии Давыдовой, «я знаю, как важен стимул. Чтобы продолжать работать, я должен следовать за своей влюбленностью». Каждое новое любовное увлечение распахивало перед ним новые хореографические горизонты – и неважно, был ли он очарован, растревожен или смущен этой любовью. (11)
Баланчин, который родился в 1904 и умер в 1983 году, был колоссальной фигурой в искусстве XX века. Бесстрашный первооткрыватель под стать Стравинскому, плодовитый, как Пабло Пикассо, готовый к экспериментам (когда хотел этого) не менее любого из современных театральных вундеркиндов. Но даже в веке XX он существовал в парадигме XIX века: пламя его вдохновения разжигали отношения художника и музы. Даже когда эта парадигма стала постепенно иссякать в музыке, литературе и живописи, в классическом танце она продолжала работать, потому что балерина – не только инструмент, но и артистка, партнер в создании балета. Вспомните сэра Кеннета Макмиллана и темпераментную Линн Сеймур в 1960-е. Питера Мартинса и дерзкую Хизер Уоттс в 1980-е. Кристофера Уилдона и загадочную Уэнди Уилан уже в новом тысячелетии. Каждый из этих хореографов вдохновлялся энергией и индивидуальностью своей балерины, и, подобно профессору Генри Хиггинсу из пьесы Бернарда Шоу, преобразившему цветочницу Элизу, видел ее своей «крепостной башней, боевым кораблем». (12)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу