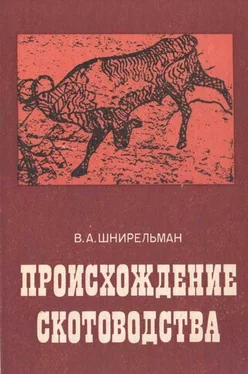The expansion of European live-stock in America since the XVI century led to the emergence of two different economic systems: one of the hunter horsemen (many Plains groups in both Americas) and the other of the agriculturalists practicing trans-humance (Navajo, Goajiro).
Chapter IV contains a general theoretical model of the origins and early history of animal husbandry. Food production was born in a few primary centres and later spread into other regions. The foundations for domestication evolved under the conditions of specialized hunting on the basis of intensive food-gathering which was becoming transformed into agriculture, and much rarely on the basis of fishing. Imprinting served as the main means of the earliest domestication. Later forceful domestication through hunger appeared. The domestication of animals was brought about by the attempt to preserve an important source of the protein while agriculture was developing and the hunting being turned into a subsidiary occupation.
The spread of productive economy took place in the forms of both migration and borrowing (diffusion). In both cases new distinct economic systems emerged including both autochthonic and introduced elements and well adapted to the local environment. These processes were often followed by the domestication of local fauna.
The book traces the ways of the formation and evolution of the technological base of the animal husbandry: the rise of dairy economy, wool weaving gelding technique, the exploitation of the domesticated animals in agriculture and transport. Owing to all these factors animal husbandry became ripe for separation from agriculture and the nomadic pastoralism emerged.
Так и поступили, например, Р. Проч и Р. Бергер, датируя древнейшие кости домашних животных [889, с. 235–239].
Истоки экологических исследований восходят к работам ряда английских и американских ученых 20—30-х годов.
К «потенциально домашним» обычно, относят те виды, представители которых позже встречены в домашнем состоянии.
Пример с одомашненными северными оленями, морфологически не отличающимися от диких, малопоказателен, так как древнейшее скотоводство возникло в условиях оседлости. Кочевой образ жизни, отличающий оленеводов, — позднее явление.
Одно время автор несколько переоценивал возможности Палестины в этом отношении (см. [371, с. 282]).
Утверждение Д. Перкинса о том, что домашние козы и овцы, а возможно, и крупный рогатый скот появились в Северном Афганистане еще в докерамическом неолите в X–VIII (IX–VII) тысячелетиях до н. э. [864, с. 70], не может приниматься в расчет без подробной публикации материала, так как, по словам квалифицированных палеозоологов, для периодов мезолита и неолита не только доместикационные признаки, но и отделение костей коз и овец друг от друга представляют собой весьма сложную и зачастую не разрешимую задачу [352, II, с. 121–123]. Тем не менее и для периода керамического неолита Д. Перкинс не дал сколько-нибудь развернутого обоснования своей точки зрения. Более того, судя по приводимой им таблице, он не вполне уверен в наличии домашних овец даже в слоях керамического неолита.
Пользуюсь случаем поблагодарить Ф. Коля, приславшего мне материалы о Мергаре.
Противоположное мнение высказал недавно М. Мерти, которому удалось обнаружить в позднеплейстоценовых слоях пещер Курнул в Южной Индии моляры коз/овец (Capra/ovis sp.). Указывая на эту находку, автор считает, что в Индии имелись природные предпосылки для местной доместикации овец [820, с. 136, 137]. Однако пока что его мнение представляется малообоснованным, так как, во-первых, точная видовая принадлежность обнаруженных моляров остается неизвестной, а во-вторых, остеологические материалы с других памятников и плейстоцена и голоцена Индии не дают оснований считать, что здесь обитали дикие козы и овцы (см. [711, с. 11З—333; 826, с. 213 и сл.; 969, с. 322–327]).
Сложность проблемы возникновения производящего хозяйства в Белоруссии была недавно подчеркнута А. А. Формозовым (см. [335, с. 101]).
Сведения о ней мне любезно предоставил М. В. Крюков.
Они и в прошлом были более аридными, чем на юге (иное мнение см. [363, с. 21]).
Правда, в последние годы в горах Новой Гвинеи в районе Кук удалось выявить древние дренажные сооружения, восходящие ко второй половине V (первой половине IV) тысячелетия до н. э., а возможно, и к более ранней эпохе.
Об этом см. также [385].
Здесь и далее используется терминология, предложенная для определения видов собственности Ю. И. Семеновым [292, с. 38, 39, 83, 84].
Такое отношение к свиньям сохраняется и у высокоразвитых земледельцев и скотоводов Новой Гвинеи, например у кума (миньи), медлпа и др.
Почти все данные относятся к 50—60-м годам XX в.
У экаги свинья получает в день до 4,0 кг батата (см. [884, с. 207]).
На это несколько лет назад указал В. М. Бахта (см. (26, с. 286]).
Читать дальше