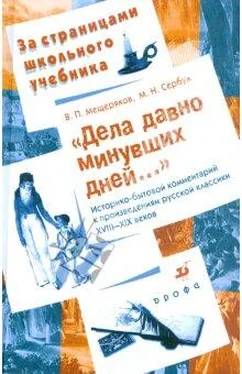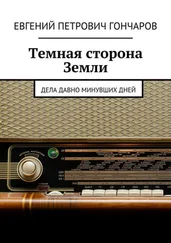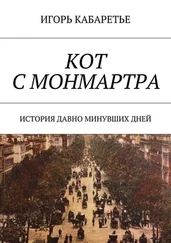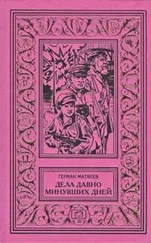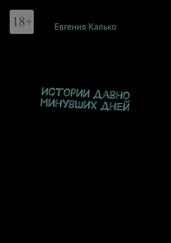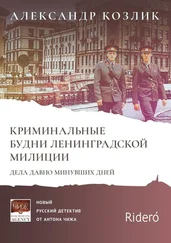Вот как описано одно из представлений с Петрушкой зрителем на исходе XIX века: «В балагане, куда мы вошли… было много публики. Все держали себя свободно, – «как дома». Парни и девушки щелкали орехи, ели пряники. <���…> А в задних рядах, к крайнему нашему удивлению, компания «любителей» втихомолку творила обычный «намаз», поклоняясь стеклянному божку. Было душно. Пахло потом, сивушным маслом и дегтем».
Точно такая же картина запечатлена и Некрасовым.
Народ орешки щелкает,
А то два-три крестьянина
Словечком перекинутся —
Гляди, явилась водочка:
Посмотрят да попьют!
Заглянем и мы в один из таких балаганов. «Балаганы – это центр праздничной площади, это главная притягательная сила, самое заманчивое, хотя далеко не всегда доступное увеселение. Балаганы – лицо гулянья. По количеству, убранству балаганов, по именам их владельцев и дедам-зазывалам, выступавшим на балконе, судили о ярмарке вообще, о размахе и значимости гулянья». [66]
Балаган представлял собой временное помещение, сколоченное из разнокалиберных досок и с крышей из промасленных старых мешков или, в балаганах побогаче, из толстого холста. Над входом помещался балкон, с которого «дед», зазывала, немудреными импровизированными виршами приглашал честной народ зайти и повеселиться. Дед совсем не обязательно должен быть стариком, «дед» – это амплуа, не более. Внутри балагана – разборная деревянная сцена с ярким кумачовым занавесом, а перед ней грубо сколоченные скамейки. Места в балагане не нумеровались и занимались зрителями по мере их появления. По окончании ярмарки балаган разбирали и перевозили на новое место, где он за считанные часы воссоздавался заново.
Судя по тому, что в Кузьминском, где происходит ярмарка, всего один балаган, описанное Некрасовым торжище не принадлежит к числу перворазрядных, но это не мешает толпе веселиться от души.
Вернемся к персонажам кукольного представления: Петрушке, козе и барабанщице. Содержание пьесок было незамысловатым и импровизировалось актерами-кукольниками по ходу действия с учетом местных особенностей. Обычно Петрушка вступал в конфликт с полицией, с господами и даже с самой Смертью. И хотя на его долю приходилось немало пинков и затрещин, в конце концов Петрушка изо всех передряг выходил победителем.
У Петрушки большой горбатый нос, красная рубашка и колпак с бубенчиками. Пронзительным голосом он обращается к публике: «Я Петрушка, Петрушка, веселый мальчуган! Без меры вино пью, всегда весел и пою: Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!»
Невзыскательные зрители живо реагировали на грубоватый юмор кукольников, их забавляла
Комедия не мудрая,
Однако и не глупая,
Хожалому, квартальному
Не в бровь, а прямо в глаз! <���… >
Хохочут, утешаются
И часто в речь Петрушкину
Вставляют слово меткое,
Какого не придумаешь,
Хоть проглоти перо!
«Козой» называли актера, на голове которого было укреплено сделанное из мешковины грубое подобие козьей головы. Барабанщик – чаще всего отставной солдат, в обязанности которого, кроме непосредственного участия в представлении, входило зазывать публику барабанным боем. Иногда оба персонажа объединялись, что произошло и здесь, в один – козу-барабанщицу» (Л. Розанова).
Как и в дворянском свете, среди низовой публики всегда бывали желающие познакомиться с актерами, заглянуть за кулисы («Как кончится комедия, / За ширмочки пойдут…»). Однако дистанции между зрителями и актерами, столь показательной для «онегинской» эпохи, в народном театре не существовало. И это отмечает Некрасов: любители общаться с петрушечниками «целуются, братаются, / Гуторят с музыкантами…».
Все бытовые оценки в «Кому на Руси…» выполнены не только со знанием дела, с достоверностью мельчайших подробностей, но и, это следует особо отметить, глазами «человека из толпы», живо и непосредственно воспринимающего все, что он наблюдает.
Помещики
Рассказ помещика начинается с упоминания о знатности рода Оболт-Оболдуевых, насчитывающего не менее трехсот лет. И хотя отсчет начинается с прапрадеда, попавшего в летописи благодаря тому, что хотел он поджечь Москву и пограбить казну, тем не менее рассказчик вне всякого сомнения принадлежит к столбовым дворянам, а возможно, даже и к боярам.
Сцены беспечального помещичьего житья, живописуемые Оболт-Оболдуевым, принадлежат определенному времени. Это «золотой век» дворянства – вторая половина XVIII – начало XIX столетия.
Читать дальше