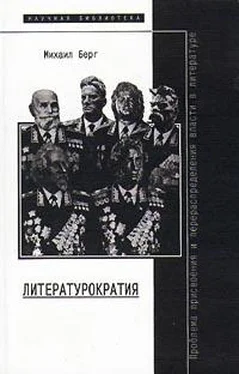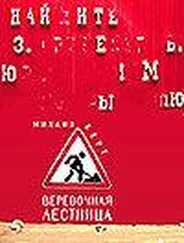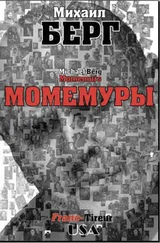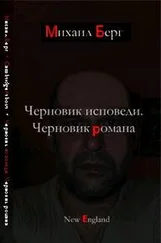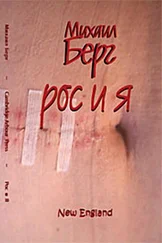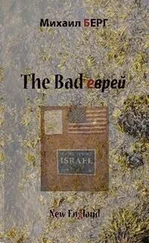Процесс исчезновения реальности в сталинскую эпоху, и в частности поглощения ее идеологией, неоднократно фиксировался 107 . Однако проблема взаимоотношения того, что называют реальностью, и способов ее легитимной репрезентации в XX веке напряженно решалась не только в рамках русской культуры, так как различие между «тоталитаризмом» и «демократией» в интересующем нас аспекте есть лишь различие в степени воплощения утопических представлений и использования утопий для утверждения и перераспределения власти 108 . Барт, имея в виду разные способы идентификации реальности, по-разному определяет функции писателя и пишущего. Если для писателя вопрос: «Почему мир таков?» — полностью поглощается вопросом: «Как о нем писать?» — то пишущие (Барт причисляет их к людям «транзитивного типа», то есть к тем, кто осуществляют функции транзита знаний) «ставят себе некоторую цель (свидетельствовать, учить, объяснять), и слово служит лишь средством к ее достижению: для них слово несет в себе дело, но само таковым не является. Тем самым язык вновь сводится к своей природной роли коммуникативного орудия, носителя „мысли“» (Барт 1989: 138).
Сравним оппозицию Барта с оппозицией Бурдье, который, опираясь на средневековую традицию, противопоставляет lector’а, призванного комментировать сложившиеся дискурсы, actor’у, продуцирующему новые дискурсы. Этот способ дифференциации фигурантов литературного процесса можно сопоставить с двумя стратегиями — вертикальной и горизонтальной 109 . Эквивалентом этого различения при разделении труда, например, в религии является различие между пророком и священнослужителем 110 . Если lector, осуществляя свою стратегию, является защитником легитимности, делегированной ему Церковью, и базируется в своих выводах на уже существующий дискурс некоего оригинального actor’ а, то у actor’ а нет иной легитимности, кроме харизмы и его практики actor’а. Своеобразие письменного проекта революции состояло в легитимации функций lector’ов, интерпретирующих получивший статус сакрального дискурса утопии, воплощенной в реалистических образах, и в объявлении нелегитимной конкуренции между коллективным actor’ом этого дискурса и другими actor’ами. Цензура, как один из инструментов власти, должна была препятствовать осуществлению инновационных (вертикальных) actor’ских стратегий во имя утверждения статуса интерпретации уже имеющегося утопического дискурса как единственного легитимного 111 . Этот утопический дискурс стал именоваться социалистическим реализмом, соединившим несколько утопических притязаний — прежде всего на репрезентацию реальности и будущего. А социалистическая утопия и реализм уже были конституированы европейской культурой, что подтверждало и легитимировало претензии на власть в рамках осуществляемого письменного проекта революции тех, кто его осуществлял.
Для Барта, объявление реалистического искусства в качестве обладателя более полной и бесспорной истины, нежели это доступно другим искусствам, не больше чем недоразумение. «Второе недоразумение, свойственное уже собственно литературе, еще более мифологизирует понятие литературного реализма; литература есть явление языка, ее суть в языке, однако язык еще до вся-кой литературной обработки уже представляет собой смысловую систему; еще прежде чем он станет литературой, в нем уже есть обособленность составных частей (слов), дискретность, избирательность, категоризация, специфическая логика» (Барт 1989: 243).
Прежде чем предстать в виде конкретного литературного дискурса, язык являлся ставкой в конкурентной борьбе, о чем стараются забыть филологи, ставящие задачу зафиксировать смысл слов, не обращая внимания на то, что многие слова, как, впрочем, и имена собственные, как об этом напоминает опыт бесписьменных обществ, являются ставками в этой борьбе 112 . Поэтому, по Бурдье, при конкуренции различных интерпретаций победителем оказывается не тот, кто имеет последнее слово в филологическом споре, а тот, за кем последнее слово в борьбе за власть. Борьба по поводу социалистического реализма была борьбой за право определять контуры и границы реальности, а ее цель состояла в антропологической перестройке человека; не случайно для Смирнова антропологической константой, окончательно сформировавшейся как раз во время реализма, оказывается способность человека к бунту 113 . Поэтому институт цензуры не только определял положение практики агента внутри поля литературы, но и положение самого агента в физическом пространстве, а задача письменного проекта революции состояла в перестройке физического пространства по законам социального пространства, где, в свою очередь, реальность была замещена системой симулякров 114 . И возможность оценить конкретную практику по двум ведомствам, с использованием шкалы литературного письма и шкалы психо-исторических изменений, в ситуации, в которой оказалась русская литература в сталинскую эпоху, открывает перспективу обнаружения тех механизмов, которые обычно скрыты. А также возможность проследить, как этика и эстетика поведения в социальном пространстве определяли социальную биографию, а социальная биография — литературную стратегию.
Читать дальше