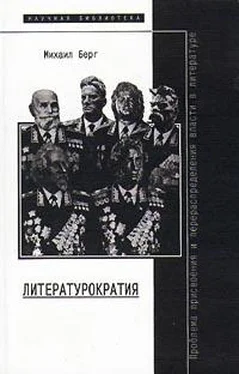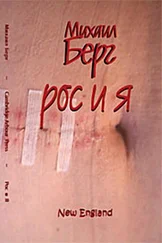Соцреализм лишь стадия многовековой программы поиска наиболее убедительного и действенного соотношения между реальностью и утопией в утопическом реализме русской культуры 126 . Но для того, чтобы символическая власть превратилась в политическую, социальное пространство должно было воплотиться в физическом пространстве.
Согласно Бурдье, любое социальное пространство стремится преобразоваться более или менее строгим образом в физическое пространство вплоть до искоренения или депортации некоторого количества людей 127 . На самом деле любое физическое пространство повторяет в своих пространственных оппозициях структуру социального пространства: так, храм и университетская аудитория разделены на внутренние части (в храме — алтарем, в аудитории — кафедрой), соответствующие не только разделению труда, но и иерархическому положению находящихся в нем. А в иерархическом обществе вообще не существует пространства, которое не было бы иерархизировано и не выражало бы иерархии и социальные дистанции иногда в буквальном, но чаще в замаскированном виде, соответствующем проявлению социальных реальностей в физическом мире. Разделение города на престижные и непрестижные районы, центр и периферию, памятники, поднятые на пьедестал и подавляющие размером, и т. д., все это говорит о том, что «физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии <���…>, объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений» (Бурдье 1993: 40).
Однако воплощение социального пространства утопии в физическом пространстве потребовало применения специфических механизмов перекодирования, одним из инструментов которого стал социалистический реализм. «„Социалистический реализм“ <���…> был двойным симулякром, поскольку он и создавал образ гипер-реальности, и сам был ее составной частью, — подобно тому, как зеркало входит в интерьер и одновременно удваивает его. Но в такой же мере и вся социалистическая реальность была социалистическим реализмом, поскольку выступала как образ и образец самой себя» (Эпштейн 1996: 168).
Процесс превращения физического пространства в проекцию социального привел к широкомасштабной операции «искоренения и депортации некоторого количества людей», операции, названной Бурдье дорогостоящей, но неизбежной ввиду сопротивления физического пространства, не приспособленного для выявления очертаний утопии 128 . Непосредственно в поле литературы с конца 1920-х годов были зарезервированы позиции для тех, чья стратегия состояла в активном удвоении утопической гиперреальности, и тех, кто не умножал гиперреальность, но и не препятствовал самому процессу, то есть занимал пассивную позицию, обозначенную термином «попутчики» 129 . При этом дифференциация учитывала не столько позиции агентов в поле идеологии или поле политики (поскольку здесь никаких иных легитимных позиций, кроме верноподданнических, уже не оставалось), а факультативные позиции в поле культуры. Причем обнаруживали себя эти позиции не в конкурентной борьбе суждений (так как литературно-эстетические, а тем более политические дискуссии перестали быть легитимными), а непосредственно в литературных практиках, противостоящих утопическому реализму.
Антиутопизм «попутчиков» имел психо-историческое и антропологическое основание, но проявлялся только в соответствующей позиции в поле литературы. Еще в 1922 году в статье «Конец романа» Мандельштам пишет о кризисе рационалистической, психологической прозы, делающей ставку на личность, характер героя и его биографию, а также о несостоятельности притязаний романных форм отражать новое время. Мандельштам утверждает, что законы, по которым строится пространство психологического романа, определяемое поступками героя и авторской мотивировкой этих поступков, не совпадают с правилами, по которым агент существует в социальном пространстве. Аргументы Мандельштама касались неправомочности антропоморфной структуризации реальности в обстоятельствах «могучих социальных движений и массовых организованных действий», нивелирующих ценность индивидуальных отличий и оправданность противопоставления себя социуму. Мандельштам не пользуется категориями типа «психо-историческая энергия» или «символический капитал», но когда он объясняет, что обоснованность романных форм уменьшается в том же темпе, с каким падают акции личности в истории, потому что для романа «роль личности в истории служит как бы манометром, показывающим давление социальной атмосферы» 130 , Мандельштам тем самым фиксирует затруднительность для романных форм присваивать и перераспределять культурный и символический капитал, накопленный в результате биографического опыта, так как «отдельной судьбы», не зависящей от институциональной структуры социального пространства, больше не существует. Фиксируется и зияющее отсутствие соответствия между возможностями психологической интерпретации и новым психо-историческим состоянием человека письменного, ибо «интерес к психологической мотивировке <���…> в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой» (Мандельштам 1987: 75). Мандельштам обосновывает зависимость дискурса власти от утопий, воплощаемых массовыми обществами, лишившими другие утопии (в частности, утопическое представление о безусловной ценности личности 131 ) властных притязаний, тем, что психология уже не обосновывает «никаких действий», ввиду чего современный роман сразу лишился опоры на фабулу.
Читать дальше