После того как прозвучали речи «от имени русской молодежи» и «от имени немецкого народа», вице-председатель Общества Георг Удён «с чувством продекламировал оду в честь гостьи» и был подан кофе, стало «вдруг тихо, словно нас покорила тайная волшебная сила»: Сельма Лагерлёф вынула «Сагу о Ёсте Берлинге» и начала читать. Если отзывы шведской прессы были возвышенными, то тон немецкоязычной газеты «St. Petersburger Zeitung» благоговейным: «Сельма Лагерлёф шведка — всецело и только шведка, но это настолько необъятная и неповторимая личность, что кажется, будто она вобрала в себя и облагородила все человечество».
В программу визита входило также посещение школы шведской церкви, где писательницу радушно поприветствовал пастор Каянус, после чего «чистые детские голоса» спели национальный гимн. Одна девочка «в трогательных выражениях» поблагодарила гостью за все «прекрасное, что д-р Лагерлёф подарила миру детей», и особенно за «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона». В ответ Сельма Лагерлёф произнесла «чарующие душу слова», выразив свою радость от того, что в Петербурге окружена шведскими детьми и звуками их шведской речи.
Одним из этих детей был двенадцатилетний тогда сын Эмиля Хейльборна, спустя 83 года рассказавший мне, как Сельма Лагерлёф, прихрамывая, вошла и надписала ему «Нильса Хольгерсона». Затем детей увели от писательницы, а торжественный вечер продолжился «чашкой кофе» в присутствии взрослых прихожан.
В письме к Софии Элькан Сельма Лагерлёф упоминала, что очень хотела бы посетить Таврический дворец, Петропавловскую крепость и Эрмитаж. Эрмитаж был закрыт «по случаю какой-то весенней уборки», но в крепости писательница побывала, как и в «Храме на крови».
Петропавловский собор стоит недалеко от так называемого равелина, где содержались политические преступники. «Нельзя не подивиться, — размышляла впоследствии писательница, — властителям, избравшим место своего последнего упокоения совсем рядом с тюремными камерами, где томились их опаснейшие противники». Она ехала в Россию «отдыхать», но писательский взгляд не мог не замечать окружавшую ее действительность.
Чичероне, сопровождавшую ее в дни пребывания в Петербурге, Сельма Лагерлёф описала так: «…шведская дама, молодая, блондинка, красивая, благороднейшего северного типа. Я знала о ней, что она из хорошего дома, и поскольку принадлежала к высшим кругам общества, то могу себе представить, что ее жизнь была, так сказать, танцем на розах. Но, общаясь со мной, эта молодая соотечественница стала мне говорить о своем горячем желании оставить праздную жизнь, найти возможность отдавать все силы какой-нибудь серьезной и трудной работе, применить на деле свои способности и собственным трудом достичь чего-то». Этим гидом была Эльза Брендстрём. Пройдет всего два года, и у нее появится возможность реализовать свои устремления.
После краткого пребывания в Москве Сельма Лагерлёф вернулась в Швецию, проведя в России больше недели.
«Прекрасная эпоха» была в России более прекрасной и беззаботной, чем где-либо. Но безудержно беспечная жизнь протекала на фоне народной нищеты и политических волнений, чего не было в других европейских странах. Словно бы интенсивность веселья была прямо пропорциональна подспудному ощущению, что скоро все это кончится.
В стране с такой разнородной социальной структурой, как Россия, печаль и радость утолялись по-разному, в соответствии с классовой принадлежностью. Рабочие, кучера и прочий работный люд посещали бесчисленные городские трактиры — своего рода третьеразрядные ресторации, обычно расположенные на уровне улицы или же в подвале. Еду заказывать не принуждали, и посетители одним махом опустошали 120 или 300-граммовые бутылочки водки — особенно кучера, которые всегда торопились. Если хотелось поесть, то обычно предлагался капустный суп с хлебом или пирогами. «Здесь собираются отбросы общества, — писал один шведский путешественник, — чтобы, налившись водкой, подкрепиться и позабыть о горестях дня. Между „Контантом“ на Мойке и трактиром на Воронежской улице такое же расстояние, как между аристократом и дворником».
Тому, кто хотел только выпить, не обязательно было тащиться в трактир: в государственных монопольных лавках водка продавалась свободно. Она была двух сортов — попроще, залитая красным сургучом, и лучше очищенная — белым. Пробка сидела так неплотно, что бутылку легко было открыть прямо на улице, и государство извлекало из этой торговли большие деньги.
Читать дальше
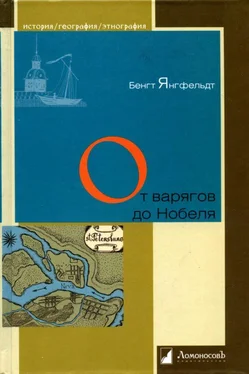





![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-thumb.webp)


