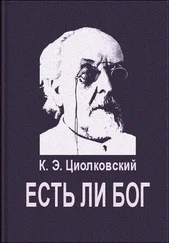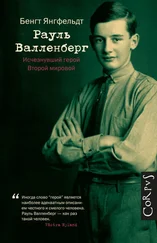Бенгт Янгфельдт
Язык есть бог. Заметки об Иосифе Бродском
Памяти Льва Лосева (1937—2009), блестящего знатока жизни и творчества Бродского

Писатель — одинокий путешественник
К моменту, когда 4 июня 1972 года самолет Аэрофлота с Иосифом Бродским на борту пересек воздушное пространство между Востоком и Западом, имя Бродского уже давно проделало этот маршрут, хотя и на других крыльях. Его уже несколько лет знали на Западе и как новую крупную величину в русской поэзии, и как жертву политической системы, каравшей его именно за то, что он поэт.
Из двух составляющих своей славы Бродский сам признавал только первую. О гонениях говорил неохотно и их значение для своей биографии начисто отвергал. Роль «жертвы» и «диссидента» была ему чуждой.
1.
Поэзия была для Бродского всем: наваждением, воздухом, которым он дышал, одержимостью. Поэзия, утверждал он, древнее политики и переживет ее, она — высшая форма человеческой деятельности, выше, разумеется, политического языка, но и совершенней прозы. Даже на пути в аэропорт Пулково в тот же день, как ему предстояло приземлиться в Вене, по воспоминаниям Татьяны Никольской, ехавшей с ним в одном такси, разговор шел о поэзии, а не о политике и об изгнании, как можно было бы ожидать.
Человек, выросший в агрессивно одноцветном обществе, должен был ради сохранения духовного здоровья выработать альтернативы иерархии ценностей, предложенной ему системой. В стране, где, по словам Бродского, «прелюбодеяние и посещение кинотеатра суть единственные формы частного предпринимательства» [1] Основные источники цитат, приведенных в книге, указаны автором в «Послесловии».
, поэзия стала «формой противостояния действительности», как пишет он в эссе о Томасе Венцлове.
В русской традиции роль поэзии иная, чем в большинстве других национальных культур. В России поэты всегда считали своим долгом говорить от имени народа, собственного голоса лишенного. Но Бродскому традиционная роль пророка была чужда, его интересовала функция поэзии как альтернативы официальному языку, языку власти, бывшему в России на редкость стереотипическим; задача поэта — не в выражении определенного мнения, а в том, чтобы писать хорошо.
В Ленинграде, родном городе Бродского, политический климат был во многом жестче, чем в Москве. Причины тому были исторические и географические: со времен убийства Кирова в Москве боялись политического сепаратизма в бывшей столице. Кроме того, в Москве находились представительства иностранных газет, которые сообщали на Запад, как власть обходится с интеллигенцией. В Москве отношения писателей с властью строились по-другому. Это касалось не только признанных авторов, но и тех, кто действовал на узкой полосе лично приемлемого и властью дозволенного. Евтушенко и Вознесенский не могли печатать все, что хотели, но они могли печататься, и были формы взаимодействия с властью, налагавшие обязательства и искушавшие привилегиями: машинами, дачами, зарубежными поездками.
В Ленинграде существовала рядом с официальной культурой богатая политическая субкультура, получившая признание только во время перестройки и, главным образом, после Нобелевской премии Бродского, сразу бросившей яркий свет на его сверстников из так называемой ленинградской школы. В советское время эти поэты не могли издаваться, несмотря на то что их стихи не были политическими. Для того чтобы считаться врагом системы, не надо было быть анти-советским, достаточно было быть а-советским, поворачиваться к системе спиной. Это касалось в равной степени и жизни, и литературы. Носили узкие брюки, лучше всего джинсы, курили западные сигареты, пили виски и джин, раздобывая их у иностранцев или знакомых, либо съездивших за границу, либо имевших доступ в валютный магазин «Березка». И стихи писали не о рабочем или доярке, как предписывалось каноном, а, например — как в случае Бродского, — о душе, каковое слово и понятие на десятилетия вышло из употребления в советской лирике. «С этого все мои неприятности и начались. Когда начальники поняли, что человек просто не обращает на них внимания», — объяснил Бродский в беседе со мной.
Весной 1964 года Иосиф Бродский был осужден на пять лет ссылки в Архангельскую область «за тунеядство». Там с ним случилось то, что, пользуясь выражением самого Бродского, можно назвать только потрясением. Московский друг послал ему антологию английской поэзии на языке оригинала. Бродский собирался читать Элиота. Но по чистой случайности книга открылась на оденовской «Памяти У. Б. Йейтса», где он мог, между прочим, прочесть следующие строки:
Читать дальше
![Бенгт Янгфельдт Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] обложка книги](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-cover.webp)