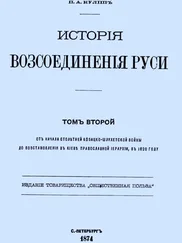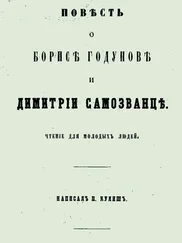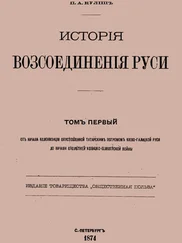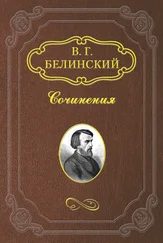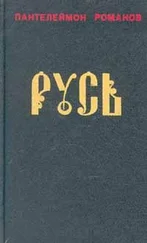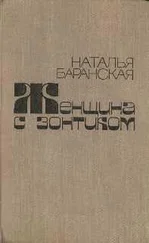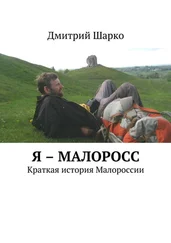В то время, как панегиристы свивали Потоцкому венки бессмертной славы, он видел всю шаткость устроенного им компромисса с казаками и все бессилие свое довершить победу, от которой зависела целость республики. По выражению современного наблюдателя Украины, умитворенные и приведенные к сознанию своего долга казаки смотрели на жолнеров так покорно, как волк, попавший в западню. Между тем в новых осадах над Ворсклом, в этих «рассадниках казацких бунтов», как называл их сам Потоцкий, сидели люди, бежавшие из старых слобод после падения Павлюка и Скидана. В порубежных московских городах также было много казаков, приютившихся до нового случая «варить с ляхами пиво». Потоцкий сознавал необходимость идти на Ворскло, в притоны мятежной черни, прямо из-под Боровицы, тем более, что для всего войска в голодной и обобранной Украине не хватало сытных стоянок, но не пошел потому, что не осмелился сделать этого без разрешения коронного великого гетмана; а коронный великий гетман не мог дать ему разрешения потому, что Варшава понимала вещи иначе, не так как те, которые по самому положению своему в виду казацких и татарских кочевьев, чуяли, откуда придет великая беда для государства.
Король, между тем, продолжал мечтать о Турецкой войне, и давал завистникам коронного гетмана надежный способ останавливать его распоряжения относительно казаков. Легкомысленно зловредные люди не хотели принять во внимание, что это была та пора года, в которую представлялась возможность подавить окончательно казацкий мятеж. Отложить расправу с бунтовщиками до весны — значило увеличить их военные средства в сто крат.
Потоцкий понимал это лучше, нежели кто-либо другой, и в письме к Конецпольскому говорил, что необходимо разогнать скопища черни из новых осад, пока у него под рукой войско, и пока не наступила весна; а его походный капеллан, в дневнике похода, объяснил нам, почему именно следовало предупредить наступление весеннего времени. «Военные люди», пишет он, «прибегают к разнообразным средствам для торжества над неприятельскими силами. Одни возлагают свои надежды на стены и окопы, другие на запасы и огнестрельное оружие; но надежды и мужество казаков, живущих на Дону и на Днепре, поддерживают вода, река, болото. Где у казака нет болота или яра, там ему беда. Много может он сделать при этих условиях; много у него тут искусства, мужества. В противном случае он — глухой немец, ничего не умеет, и гибнет, как муха. Потому-то зима — жестокий враг его: зимой нельзя уж ему ни рыть окопов, ни уходить водою. Плохо ему воевать в эту пору года. Но весна, лето и отчасти осень — это его хлеб, его скарб, его достатки и всяческая фортуна».
Но землевладельческая, хозяйственная Украина была в восторге от быстрых успехов Потоцкого, и всех больше радовался сам великий коронный гетман, Станислав Конецпольский. На его колонизаторский взгляд, Потоцкий сделал для общего блага столько же, сколько, на взгляд Фомы Замойского, сделал, в отсутствие Конецпольского, Стефан Хмельницкий, и даже больше. Чуждый того славолюбия, который заставляет быть скупым на похвалы товарищу, он объявил, что полевой коронный гетман великим своим подвигом проложил себе дорогу не только к высшим наградам из королевской руки, но и к бессмертной славе, которая не умолкнет (прибавил он с бессознательной иронией) «до тех пор, пока будет существовать Речь Посполитая».
Одно только десятилетие суждено еще существовать славолюбивой республике шляхты до того рокового момента, когда она, вместе с нынешним победителем, пала во прах перед казако-татарскою ордою, чтобы не встать уже из своего позорного упадка.
В Киеве предводителя казаков и творца широкой, небывалой еще в Королевской земле казни встретили мещане и шляхта со всевозможною торжественностью. Киевские мещане вечно враждовали с окрестными помещиками в силу старинного антагонизма между городским и сельским населением, вечно с ними тягались, как и другие города, за обширные некогда мещанские займища, но в казатчине видели они такое же разлагающее начало общественной и экономической жизни, как и хозяйственная шляхта. Они приветствовали Потоцкого искренно.
С одинаковой искренностью приветствовал его и митрополит Петр Могила, в качестве архипастыря, но нуждающегося больше в казацких «слезных мольбах об успокоении древней греческой церкви», и в качестве хозяина, терпевшего в наследственных и ранго-церковных имениях своих казацкие буйства наравне с экономистами светскими. Могила поспешил поздравить коронного полевого гетмана с победой у него на дому, а могилинские коллегианты сочинили в честь кумейского героя латинскую орацию, превратив Павлюка в Катилину.
Читать дальше
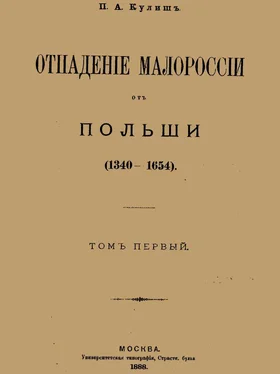
![Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/30927/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom-thumb.webp)