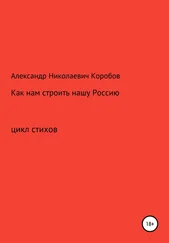Воспоминания о предыдущей войне и страх перед будущей способствовали попыткам европейской дипломатии изменить традиционные правила игры. Была создана Лига наций, подписан пакт Бриана — Келлога о запрещении войны в качестве орудия национальной политики, созывались конференции по разоружению. Державы-победительницы войны действительно не хотели, мелкие хищники Восточной Европы, оглядываясь на «старших братьев», также воздерживались от силового метода решения своих проблем; появление же гитлеровской Германии, этого, в прямом смысле слова «уродливого детища Версальского договора», в 20-е годы предугадать было нелегко.
Все вышесказанное относится к Европе, в меньшей степени — к Северной Америке. Но была еще и Советская Россия, в которой последствия мировой войны померкли перед последствиями революции и войны гражданской.
Пока Европа приходила в себя, надеясь, что мировая война не повторится, в советском обществе ожидания новой войны, напротив, с каждым годом усиливались, и так продолжалось по крайней мере до конца 1920-х гг.
Возможность войны с «капиталистическим окружением» в 20-е годы (вопреки расхожим представлениям) ощущалась гораздо более остро, чем в 30-е. Причин для этого много, например, живая память о мировой и гражданской войнах с участием иностранных держав. Комментируя очередные слухи о войне, М.М. Пришвин в июле 1929 г. в дневнике упомянул о своем «малодушном состоянии», оправданном предшествующим опытом, и добавил: «Такой маленький человек, трус жизни, воспитанный войной, революцией, голодом, живет в каждом из нас…» {262} 262 Пришвин М.М. Дневники. 1928–1929. Кн. 6. М., 2004. С. 109–110.
Панические настроения населения подпитывались сообщениями газет, нередко публиковавших заметки, рисунки, содержание которых могло быть истолковано как описание реальных военных действий {263} 263 См.: Кудюкина М.М. Угроза войны глазами красноармейцев в 1920-е годы // Война и мир в историческом процессе (XVIIXX вв.) Ч. 1. Волгоград, 2003. С. 278–279
.
Вообще пропаганда всех уровней не уставала напоминать о «враждебном капиталистическом окружении». В результате в массовом сознании постоянно фигурировали своеобразные «призраки войны», чаще всего не имеющие серьезных оснований, иногда совершенно фантастические, но для многих казавшиеся вполне реальными.
Играли свою роль и особенности восприятия, когда доходившая, например, до деревни, внешнеполитическая информация многократно искажалась и «перекраивалась» по законам мифологического сознания.
Характерный пример содержится в одной из сводок отдела ОГПУ области Коми за декабрь 1926 г.: «Гражданин деревни Рим Жашартской волости Римских Илья Никитич получает газеты и читает среди крестьян только статьи о подготовке к войне со стороны иностранных держав. Темное население, видя это, говорит, что опять скоро будет война» {264} 264 ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921–1927 годы (По материалам информационных сводок ВЧК-ОГПУ). Сыктывкар, 1995. С. 130.
. И таких интересующихся политикой крестьян, как этот житель северной деревни с итальянским названием, фактически формирующих представления односельчан о мире, было немало по всей России. В сводках ОГПУ постоянно встречались утверждения, что «грамотные крестьяне, читая в газетах о военных приготовлениях в Польше, Румынии и Англии находят, что война неизбежна» {265} 265 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 87. Д. 187. Л. 71.
.
Ключевой проблемой при изучении массового сознания советского общества является определение того, насколько распространены были те или иные зафиксированные высказывания, отношения, оценки. Материалы ОГПУ или источники личного происхождения в лучшем случае свидетельствуют о том, что данное мнение было «широко распространено» или что о том-то и о том-то «все говорят». Однако подобные утверждения, как правило, ничем не подтверждены, даже если в целом и соответствуют действительности. В лучшем случае можно говорить о спектре настроений и о большей или меньшей их распространенности, как в имеющихся источниках, так и — с меньшей степенью уверенности — в исторической реальности {266} 266 Некоторые исследователи подвергают контент-анализу такие достаточно репрезентативные источники, как письма в органы власти и в газеты или материалы перлюстрации. Это позволяет выделить количество писем, где затрагивались те или иные проблемы или процентное соотношение высказываний «за» и «против» существующего порядка вещей. См., например: Лившин А., Орлов И. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002; Частные письма середины 1920-х годов (из архивов Политконтроля ОГПУ) // Нестор. 2005. № 1 (5). С. 27–92; и др. Однако внешнеполитические сюжеты в подобных материалах встречаются крайне редко и не могут служить основанием для сколько-нибудь обоснованных подсчетов.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
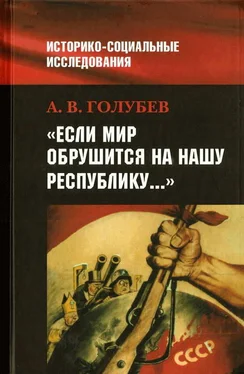


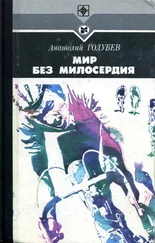
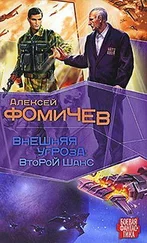

![Михаил Атаманов - Внешняя угроза [СИ]](/books/416906/mihail-atamanov-vneshnyaya-ugroza-si-thumb.webp)