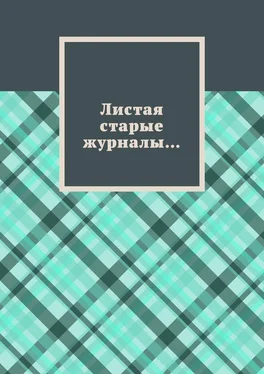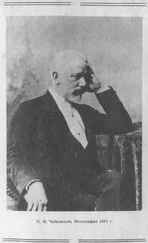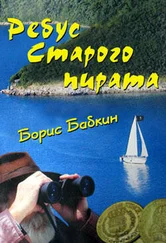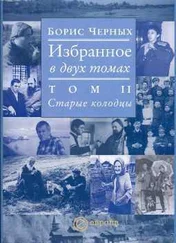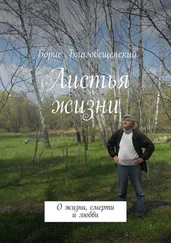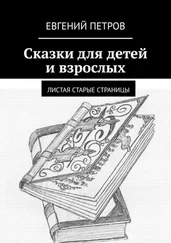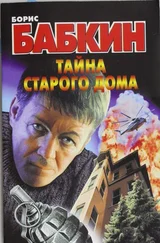Закончился этот эпизод следующим (от 20 июня 1824 г. за №2423) указом Владимирской консистории на имя настоятеля архимандрита Парфения:
«Резолюцией его преосвященства Парфения, епископа Владимирского и Суздальского и кавалера, данною на указе Святейшего Правительствующего Синода с изъяснением в нем положения Комитета гг. Министров, последовавшего о возникшей в разных деревнях Нижегородского уезда секте скопцов, которые получают вредные учения от содержащегося в Спасо-Евфимьеве монастыре под стражею учителя и развратника Кондратьев Селиванова, предписано: отцу архимандриту Парфению предписать указом, чтобы принял всевозможные меры предосторожности к удержанию арестанта от распространения вредного заблуждения и от сообщения с единомышленниками».
Здесь мы встречаем в первый раз имя Кондратия Селиванова, обозначенное так в указе Святейшего Синода. Между тем и несколько ранее уже появляется в деле это имя. Так, в том же 1824 г., 3 марта, новый Владимирский губернатор граф Апраксин затребовал от архимандрита Парфения следующих о старике, начальнике скопцов, сведений:
«В котором году он родился, какой был ход его жизни, как допустил себя признавать за Искупителя. Есть ли успехи в обращении его к истине; и поведывается ли и верует ли он всем догматам нашей церкви; отрекся ли он от названия лже-Христа, как он проводит время, чем занимается и что читает?»
На этот запрос послан был, 26 марта 1824 г. за №22, следующий ответ:
«Честь имею сим, донести вашему сиятельству, по собранным мною в разные времена при разговоре с ним (арестантом) сведениям: уроженец он Орловской губернии, города Дмитровска из крестьян помещика, так им называемого Воловского. Время рождения ему не известно и помнит только то, что при императоре Петре I был уже лет пяти, и на четырнадцатом году жизни своей, в царствование императрицы Анны Иоанновны, сам себя скопил; почему и надобно полагать, что ему от роду теперь не менее ста четырех лет. За распространение скопческой ереси в других, из коих скоплено им самим более ста человек, в царствование императрицы Екатерины Второй был сослан в Сибирь где находился тридцать лет; при ныне царствующем же государе императоре (Александре I) освобожден и по 1820 год имел жительство в Петербурге у своих единомышленников и большею частью у купца Михаила Солодовникова. В успехе обращения его к истине по-видимому удостоверяют как усердное его желание, с каковым он принимает святые таинства покаяния и причащения, так и верование его в догматы нашей церкви: в беседах со мною называет себя грешником и благодарит Бога, что остатки дней своих досталось ему проводить в. безмолвном месте на покаянии, касательно же названия лже-Христа, по отзыву его, он никогда сего не принимал, и сектаторы его сим не признавали, а только почитали его, как старшего брата. И сколько раз я и духовник ни вызывали его на признание, как он выдавал себя за Искупителя – но не могли извлечь оного, а часто повторял, что сущность секты их состоит в целомудрии и воздержании. Время проводит ничем не занимаясь, по старости лет, слабости зрения и по болезни в ногах почти всегда находится в постели; чтением же не занимается потому, что он выдает себя незнающим грамоты, хотя в разговорах сего марта 18 проговорился, что учился самоучкою и читывал. Вот сущность собранных сведений. Относительно же дальнейшего разыскания не премину воспользоваться вашим наставлением».
Из следующей затем переписки в деле видно, что за отменою высшим правительством соединенной в одном лице должности министра народного просвещения и министра духовных дел и за назначением отдельного синодального обер-прокурора, князя Петра Сергеевича Мещерского, архимандрит Парфений испрашивал через местного преосвященного разрешения: к кому должен он представлять теперь ежемесячные рапорты о старике арестанте, как то требовалось инструкцией митрополита Михаила. Новый обер-прокурор отвечал владыке, что «он, не отыскав во вверенном ему отдалении духовных дел греко-российского исповедания никакого производства о показанном старике, относился к преосвященному Серафиму, митрополиту новгородскому и с.-петербургскому о сообщении сведений как о содержании инструкции, изданной по сему случаю в июле 1820 года, так и о том, кому именно, по мнению его, должен отец архимандрит доносить о положении упомянутого старика. Но преосвященный Серафим отозвался, что отпуска с таковой инструкции не оказалось в числе дел, в походной его конторе находящихся».
Читать дальше