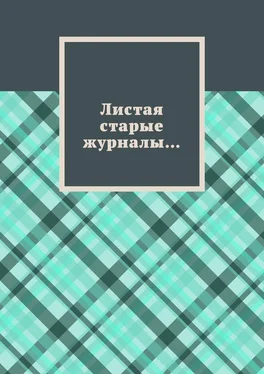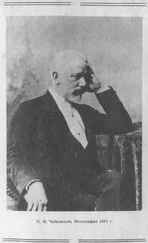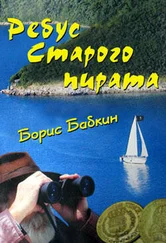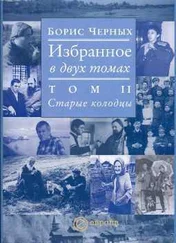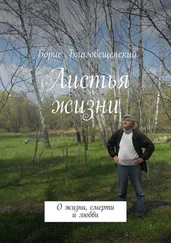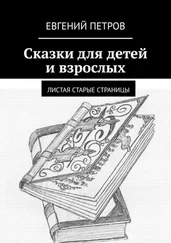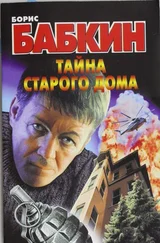Те, которым случалось видеть в Петербурге, в цирке, эквилибристов братьев Бюри, висящих иногда на руках, на верёвке, на большой высоте, могут иметь понятие о том, как пытаемый висел на дыбе. В Венеции, в дворце дожей, показывают комнату пытки, в которой висит еще на верху блок, употреблявшийся для подъема вверх обвиненного.
Существовало еще одно истязание, введенное в России уже при Петре. У Рубана находим следующее: При гауптвахте (в Петропавловской крепости) была площадь, именуемая плясовая, на коей поставлена была деревянная лошадь с острою спиной, на которую сажали за штраф солдат на несколько часов сидеть, и при том еще столб вкопан был деревянный, и около его поставлены были спицы острые, и вверху того столба была цепь, и когда кого станут штрафовать, то в оную цепь руки его замкнут, и на тех спицах оный штрафованный должен несколько времени стоять. Мы знаем, что последнего рода пыткой (стоянием на спицах) пытали генерал- майора Глебова.
У г. Костомарова в его «Стеньке Разине» есть описание особенной пытки, которою будто бы пытали Разина. Он заимствовал эту подробность из современной небольшой брошюрки, в которой сказано следующее: Русские употребляют особого рода пытку, состоящую в том, что преступнику бреют голову в виде венца, подобно тому как у священников, и потом льют на голову холодную воду, которая падая причиняет, по их словам, сильную боль (Капанье холодной воды на голову употребляется и при лечении сумасшедших и производит, конечно, очень неприятное ощущение, но едва ли что когда пришли брить им головы, Стенька сказал своему брату Фролке: Я до сих пор думал, что делают венцы ученым людям; но теперь вижу, что и нам невеждам делают эту честь).
Слова, приписанные этой книжечкой Стеньке о делании венцов ученым людям, не имеют смысла. Дело в том, что эта книжечка не есть оригинал, но перевод с английского; есть и другой перевод с подлинника на немецкий, в котором мы нашли тоже самое место, но несколько иначе переданное. Стенька говорит: …брат, я слыхал что только учёных людей бреют в священники. Очевидно, здесь указание на обряд католической церкви (тонсура), который конечно не мог быть известен Стеньке (Стенька, хотя и был в Польше, но походом, с войском кн. Долгорукого, мог участвовать в грабеже какого либо костела, но видеть посвящение в ксендзы, епископскую службу, навряд ли ему случалось), и потому мы имеем право заподозрить весь этот рассказ, по нашему мнению, выдуманный, тем более что, описывая эти подробности, неизвестный автор не говорит ни слова о других пытках, а уж конечно Стеньку пытали кнутом. У г. Костомарова есть подробное описание, как Стеньку пытали кнутом на виске. Более чем вероятно, что это действительно так было, но так как нигде об этом нет свидетельства, то г. Костомаров и должен был бы о том упомянуть; при том откуда он взял, что Стенька, вися на дыбе, получил около сотни ударов кнутом? Такой пытки вынести конечно не мог бы никто; чтобы получить сто ударов, пытаемый должен был провисеть часа три на дыбе и непременно изошел бы кровью, или получил бы нервический ударь от напряжения: никакой Геркулесовский организм не выдержал бы того (Преступникам давали иногда до ста ударов кнутом, но на козе (или кобыле), что несравненно слабее пытки на дыбе). В Стрелецком розыске и в процессе Царевича никому из обвиненных не давали более 25 ударов кнутом в один раз (как тогда выражались – в один застенок), иначе последовала бы смерть; да и 25 ударов давали только на первой пытке. И наконец, где нашёл г. Костомаров это показание.
«Дав Стеньке около ста ударов кнутом, говорит г. Костомаров, связали ему руки и ноги, продели сквозь них бревно и положили на горящие уголья. – Стенька молчал». Очень вероятно, что и этим способом пытали Стеньку, но опять нигде о том нет свидетельства.
«К чему эти придирки?» – скажут нам. Не все ли равно как бы ни пытали Стеньку; не подлежит сомнению, что его пытали и, по всему вероятию кнутом и огнем; какое дело до подробностей? Так; но зачем же г. Костомаров описывает эти подробности, и описывает, не указывая источников. Исторический исследователь, представляя украшенные рассказы о происшествиях, чтобы более подействовать на воображение читателя, может приобрести очень дурную привычку искажать факты, изобретать исторические сцены и картины. Не место здесь входить в подробный критический разбор сочинения г. Костомарова о Разине, имевшего большой успех, который мы главнейше относим к новости предмета, а также и к искусству изложения. Заметим только, что, повторяя показания Французской книжки, г. Костомаров, по нашему мнению, впадал в погрешности. Так наприм. у него упомянуто (стр. 166), что в Арзамасе, при усмирении бунта, в продолжении трех месяцев, казнили одиннадцать тысяч человек; их осуждали не иначе, как соблюдая обряды правосудия и выслушивая свидетелей. Цифра эта кажется нам совершенно невероятною. В Стрелецком розыске, в Москве, казнено 1150 в продолжении 5-ти месяцев; и едва ли это не есть самое страшное (по числу жертв) юридическое избиение в истории. При том надо вспомнить, что в Москве были все средства для суда над стрельцами: в Преображенском много застенков, дьяков, палачей и орудий пытки, всего в изобилии. Тюрем, хотя и довольно в Москве было, но в них стало тесно, и стрельцов держали под караулом в монастырях и даже в подгородных селах. В небольшом же город Арзамасе содержать в тюрьмах, допросить, судить и казнить 11.000 человек в 3 месяца невозможно. В ХѴIІ веке человека не осуждали на смертную казнь, не пытав его предварительно. 11.000 человек могли быть убиты при каком-нибудь поражении скопищ Разина царскими войсками, это другое дело; но казнь 11.000 считаем мы за преувеличенное показание иностранца, которое нас и не удивляет, потому что подобных показаний о России много существует; но удивляет нас то, что г. Костомаров повторяет в своей книге подобные сведения, не очищая их исторической критикой. Прибавим, что еще более странным показалось нам везде видное желание г. Костомарова выставить Стеньку почти как исторического деятеля, чуть-чуть не как героя, хотя в начале сам автор говорит про него: «честь и великодушие были ему незнакомы. Таков был этот борец вольницы, в полной мере изверг рода человеческого, вызывающего подобные личности неудачным складом своего общества». Что Стенька был изверг, в том, конечно, нет сомнения; но борец вольницы – это выражение, кажется нам, уже слишком для него почетно. Об таком адском исчадии, как Разин, совершивший столько невообразимых злодейств, погубивший столько людей в страшных муках, казалось бы, и говорить-то не следовало иначе, как с негодованием и омерзением. Изверг, кем бы он ни был – азиатским деспотом, или степным разбойником – есть всегда изверг, существо более ненавистное, чем зверь дикий, чем гад ядовитый. У Французов, под влиянием духа партий, представляли героями и оправдывали и такие личности, как Катерина Медичи, Равальяк, Марат; но никто из исторических исследователей во Франции не пытался еще представить героем, например Картуша или Мандрена, а ведь и Картуш – невинный младенец в сравнении с Стенькой. Историк не должен следовать примеру политических публицистов, часто натягивающих и искажающих Факты (которые вообще эластичны), чтобы провести свою идею. Подобные воззрения часто бывают уделом ученых, сидящих всю жизнь свою в стенах кабинета, библиотеки, архива, мало знакомых с людьми и жизнью. При деятельности их, исключительно направленной на один предмет, при стремлении провести везде свои любимые идеи и принципы, часто довольно абстрактные – в них делается иногда даже извращение понятий о добре и зле.
Читать дальше