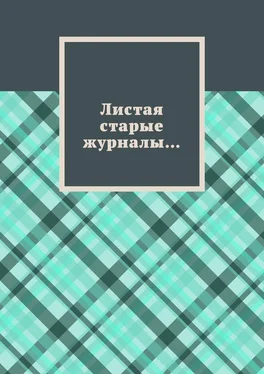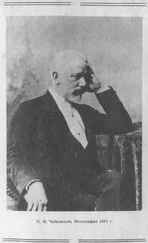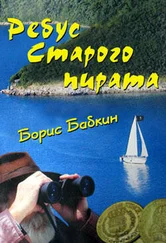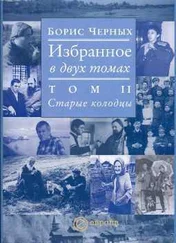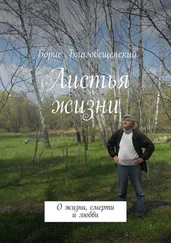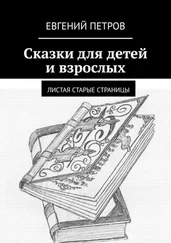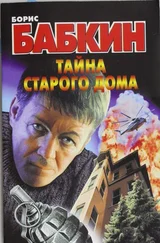«Русский архив», №7, 1867
В. Майнов. Скопческий ересиарх Кондратий Селиванов.
(Ссылка его в Спасо-Евфимиев монастырь)
«Делу же сему особливой важности не придавать и трактовать оное не как политическое, а как гражданское», – писала императрица Екатерина II в инструкции своей полковнику Волкову, отправлявшемуся производить следствие о скопцах. К сожалению, впоследствии высшее правительство отказалось от такого взгляда, придало важность простому факту религиозного помешательства, увидало опасные политические замыслы там, где было лишь одно невежество, само надело на главы фанатиков мученические венцы и окружило их ореолом страдальцев за истину. Чистое, неизвращенное еще фанатизмом своих прозелитов, христианство требовало служения Богу в духе и истине и никогда конечно не посягало на человеческую природу ради угождения Творцу; однако, с течением времени под влиянием воззрений, порожденных прежними религиозными канонами, а также в силу желания подчинить Богу всего себя, распять «плоть со страстьми и похотями», мы начинаем замечать в христианстве совершенно неприсущее духу его течение, состоящее не только в духовном оскоплении себя во имя Божие, но и в действительном, сознательном оскоплении, выражающемся в известной мучительной операции. Не говоря уже о религиях Малой Азии, Финикии, халдеев и т. п., даже само идеалистическое иудейство допускало оскопление, и сам Божественный Спаситель указывал на него как на существующий факт, сказав, что «суть скопцы иже оскопиша ся ради царствия небесного». При помощи строго аскетических воззрений разных последующих учителей церкви, идея спасения через оскопление никогда не умирала в Византии, где было заведомо насколько епископов-скопцов, а отсюда она должна была проникнуть и в Россию, где культ бога Ярилы представлял для нее плодотворную почву.
С другой стороны, христианство не могло отрешиться и от тех мистических идей, которые были до него выработаны лучшими умами того времени, а потому то тут, то там оно вступило в компромиссы с этими мистическими теориями, дав начало павликианству, манихейству, катарству и альбигойству с одной стороны и так называемому неоплатонизму со всеми его подразделениями – с другой. Борьба злого и доброго начала, учение о Слове и возможность уподобиться Слову-Христу – вот те чисто языческие теории, которые самою силою вещей проникли в христианство и основались в Византии и ее провинциях, так как Восток относился всегда более терпимо к религиозным убеждениям, нежели Запад христианского мира. Главными носителями этих трех теорий явились катары, булгарские богомилы, итальянские патарены и южно-французские альбигойцы; как известно, они не довольствовались спокойным исповедованием своего религиозного канона, а напротив того, постоянно ходили на проповедь, искали прозелитов и заходили в Россию.
К сожалению, до сих пор обращали слишком мало внимания именно на эти два фактора распространения у нас на Руси скопчества и, признавши а ргіогі незначительность влияния нашего язычества на позднейшее наше христианство, искали причин этого противоестественного явления там, где ничего подобного никогда небыло; понятно, что объясняемое оставалось необъясненным, и появление христовщины с ее ползаньем по холсту и исканием Христа, с целым рядом ее лже-Христов, а в особенности факт появления учения о необходимости оскопления представлялись лишь «сумасбродным измышлением подлого народа». А между тем, если обратиться ко всестороннему и подробному изучению не одних наших мифов, но и мифов тех финских народов, которые оказали несомненно громадное влияние на создававшееся когда-то Великорусское племя, если бы исследовать богомильство и его влияние на Россию и наше народное двоеверие и наконец присмотреться поближе к остаткам культа Ярилы и Матери-Сырой Земли, то оказалось бы, что и христовщина с ее религиозным энтузиазмом и экстазом, да и самое вытекающее из нее скопчество, развились у нас на давно приготовленной и разрыхленной почве и не представляют собою ничего чудовищного, а являются лишь доказательствами того, что в момент насаждения христианства народ не был готов к его принятию целиком и без изменений, а потому и должен был переделать его на свой лад, применяясь к раньше выработанным им религиозным воззрениям.
Все вышеизложенное сказали мы по поводу помещенных ниже новых и крайне притом интересных материалов, доставленных в редакцию «Исторического Вестника» г. Л. И. Сахаровым (при посредстве проф. Е. Е. Замысловского) и касающихся пребывания скопческого ересиарха Кондратия Селиванова в заточении в Спасо-Евфимиев монастыре. Мы не могли, конечно, вдаваться в подробное разъяснение намеченных нами фактов, так как такое разъяснение может составить предмет особого и весьма пространного исследования, и представили лишь в намеках дезитерата отношения нашего раскола.
Читать дальше