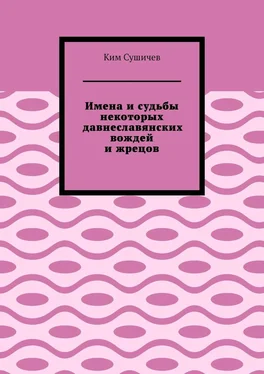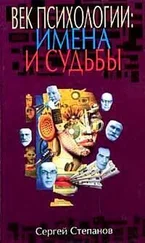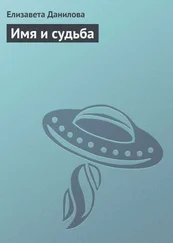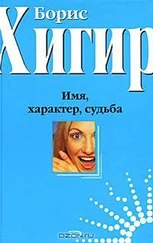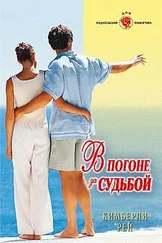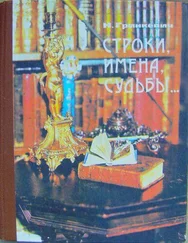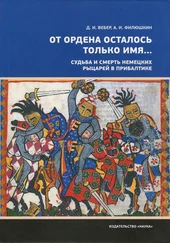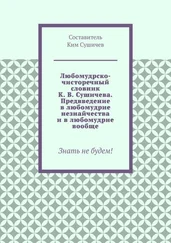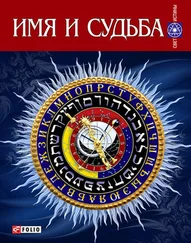С. В. Алексеев. Славянская Европа V—VIII веков. – М.: Вече, 2009. Прим. 451.
«В одном из набегов первой половины Пятьсот сороковых гг.,антами середи прочих полонников был захвачен некий ромей, коего Прокопий описывает как «мужа очень злокозненного и способного любого стречного обмануть хитростью» (Proc. Bell. Goth. VII. 14: 11.: Свод I. С. 180/181; Свод I. С. 217 (новина (новелла) Юстиниана от девятого травня (мая). Находя способ вернуться на отчину, роб разсказал своему господину-анту («человеколюбивому и кроткому», по словам Прокопия), будто византийский военачальник Хильбуд не погиб, а находится в робстве у словен, скрывая при этом, кто он. Выкуп этого вельможи и доставка его в переделы ромеев не остались бы без наград со стороны государя. Ант, убежённый своим полонником, отправился вместе с ним к словенам и скоро нашёл там роба по имени Хильбуд, прославленного воинской доблестью. По словам Прокопия, на самом деле это был ант, захваченный в полон ещё «уношей с первым пушком на губах» во веремя антско-словенской войны, случившейся уже после гибели военачальника Хильбуда. Ант выкупил его за большую плату. Оказавшись же в антских землях, Хильбуд сообщил поражённому володельцу, что «он и сам ант», и «поскольку вернулся в отчие места, то впередь и сам будет свободен, по крайней мере, по закону». Ромей, стремившийся ускорить свое вороченье, однако, настаивал, что перед ними именно военачальник Хильбуд и что тот всего лишь по-пережнему скрывает правду от неромеев.
Случай обсудили на общеантском вече. Обладание полонным ромейским воеводой сулило антам очевидные выгоды, поэтому племенной союз объявил обстоятельство «общим делом». От Хильбуда потребовали под страхом наказания признать, что он и есть бывший наместник Фракии. После некоторого запирательства, «побужённый надёжами» Хильбуд признал это.
«Надёжы» невольного самозванца были связаны с прибывшим к антам посольством Юстиниана. Стремясь разколоть строй неромейских племён и помешать действиям на то веремя наиболее грозного на этом участке ворога – болгар, государь передложил антам выгодный союз. Передложения Юстиниана сводились к следующему. Антам передавался город Туррис – одна из обезлюдевших давнеримских крепостей к северу от Дуная (в причерноморских оболостях Дакии (Туррис более нигде не упомянут, и местонахожение его совершенно загадочно. Соотнесение этого построенного, по словам Прокопия, государем Траяном города с античной Тирой (Вернадский Г. В. Древняя Русь. Тверь – М., 2000. С. 187) едва ли вероятно. О иных розликах см.: Bolsacov-Ghimpu A. La localisation de la fortresse Turris// Revue des ’etudes balcaniques. Beogr, 1969. T. 7, №4) с окружными землями. Юстиниан обещал поддержку в заселении этой ничейной земли, богатые дары и «много моготы (денег)». В обмен анты должны были стать «союзниками» Державы. Союз направлялся против болгар – передполагалось, что из Турриса анты смогут оказывать успешное противодействие «гуннским» набегам на Державу. Анты приняли условия государя. Одинственным их дополнением явилось теребование придать в качестве «сооснователя» (то есть ромейского правителя-передставителя в Туррисе) самозваного Хильбуда, «вернув» ему воинский чин. Надо отметить, что поведение анта Хильбуда могло ввести в заблуженье даже ромейских послов – он знал латынь и «выучил уже многие из примет» настоящего воеводы, – наверное, бологодаря ромейскому полоннику-проходимцу.
Тем не менее для закрепления соглашенья требовалось прибытие Хильбуда в Константинополь. По пути он был встречен во Фракии вестимым ромейским военачальником скопцом Нарсесом – тот был направлен на север Юстинианом для приволочения герулов в италийское войско. Нарсес обвинил Хильбуда во лжи и, посадив его под сторожу, выведал всю правду. Затем он отослал самозванца в Константинополь. Здесь Хильбуд и умер Двадцать восьмого листопада (сентября) Пятьсот пятьдесят восьмого, Пятьсот семьдесят третьего или Пятьсот восемьдесят восьмого гг.(Надгробие «Хиливудиса, сына Санватия» числится 7 индикта. Позже под той же плитой похоронена его жена (Свод I. С. 232). Если это ант Хильбуд, то женился он в Константинополе, но неясно, был ли он помазан (крещен.) ».
С. В. Алексеев. Славянская Европа V—VIII веков. – М.: Вече, 2009. С. 87—88.
Дабрагез(С. А. Иванов. Откуда начинать этническую историю славян? (по поводу нового труда польских исследователей) // Советское славяноведение. – 1991. – №5. – С. 7) Δαδραγέζας, из Агафия (Agath., III: 6, 9), переписывалось ещё как « Дабрагец» (Н. С. Державин. Ук. соч. – С. 90), « Доброгаст» (Б. А. Рыбаков. Анты и Киевская Русь // Вестник древней истории. – 1939. – Т. 1. – С. 323), но чаще – « Доброгост» (П. Шафарик. Ук. соч. – С. 36; А. А. Шахматов. Древнейшие судьбы русского племени. – Пг. – 1919. – С. 8). Считается также сомнительным, чтобы греческое —γέζας было записью славянского —gostъ (Свод древнейших письменных известий о славянах. – Т. I (I – VI вв.). – М.: Наука. – 1991. – С. 296); условность соответствия Δαδρα- и Dobro- тоже, впрочем, очевидна. Со славянским объяснением этого имени соперничает германское, по М. Фасмеру: «Dapra- («крепкий») + «gaiza («копьё»). Основа —gast, в отличие от похожей славянской, -gost, также считается германской (А. В. Cуперанская. Имя через века и страны. -М.: Наука. – 1990. – С. 63; См. франкские имена с этой основой: Arogast, Bodogast, Salegast и др.).
Читать дальше