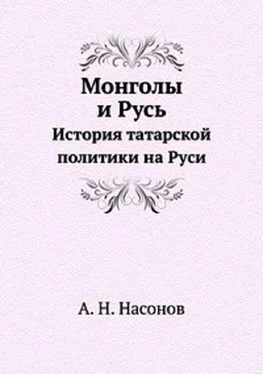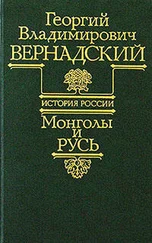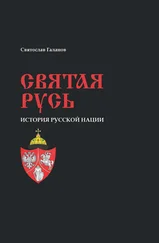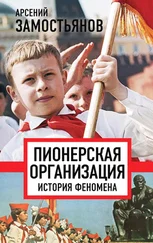Мы видели, что после восстания в Твери и убиения Шевкала Александр Тверской (он был тогда и великим князем владимирским) бежал в Новгород и оттуда (так как новгородцы его не приняли) во Псков. Когда Калита с новгородскими послами приехал в Орду, Узбек приказал им «искати» князя Александра. Они отправили к Александру своих посланцев, но безрезультатно: тверской князь в Орду не шел. Тогда был организован поход. Новгородская летопись, кроме тверских князей Василия и Константина, называет двух: Ивана Даниловича и Александра Суздальского; имена иных участников похода летописцы не упоминают: «и иных много Русских князий»). Одна из летописных традиций отмечает, что приказ участвовать в походе получили «все князи». Из Новгорода Калита со всеми князьями и «с Новымь городомь» пошел ко Пскову, но Александра (тверского) не встретил, так как тот повернул назад в Опоках. Александр, таким образом, ушел, привести его не удалось; соглашение же с псковичами состоялось только благодаря вмешательству митрополита (см. Пек., Новг. I, Никон., Рог. лл., 1329 г.).
Cм. у Эласади (Т и з., I, стр. 447); см. Симеон, л., 1341 и 1342 гг. и Рог. л., 1342 г.
Рог. л.
«It was the traditional policy of the Tartar to check the Russian princes the one by the other, to feed their dissensions, to cause their forces to equiponderate, and to allow none to consolidate himself» (op. c., p. 80).
В 6845 г. князь Александр поехал к Узбеку и «приатъ пожалование оть царя, въсприимъ отчину, свою» (Рог. л.); на следующий год «князь Александръ Михаилович Тфѣрьскыи поиде во Орду» и «на ту же зиму прииде князь великий Алексаидръ изъ Орды во Тфѣрь» (Рог. л).
Давать великокняжеский титул тверскому князю, имевшему связи с Литвою, не соответствовало не только интересам московского князя, но и митрополита Феогноста (ср., напр., о церковных спорах: М. Д. Приселков и Μ. Р. Φасмеρ , Отрывки В. И. Бенешевича по истории русской церкви XIV в. П-д, 1916, ИОРЯС, т. XXI, стр. 18–19 и др.). Так или иначе, в Константинополе признали великокняжеский титул за тверскими и нижегородско-суздальскими князьями (см. Пам. др.-р канон, права, русск. истор. библ. VI, прилож). Напомним также, что сарайский епископ сохранил некоторое преимущественное право (между епископами) в сношениях с Царьградом в XIV в. (напр, отправлял патриарху грамоты от русских епископов, в 1354 г.).
Рог., 6855.
Там же, 6850.
Новг. л.
См. Рог. и Никон., лл., 1352, 1354–1356 гг.; Никифор Гρигоρа , ХXXVI, ed. Bonn., v. Ill, p. 518; Пам. др.-p. канон, нрава (Русск. ист. библ, VI), прилож. № 9, 10 и 11. Ср. Н. Тихомиров , Галицкая митрополия, СПб., 1896, стр. 93–105; Голубинский , Ист. русск. церкви, т. II, пол. I, стр. 178–185; Н. П. Лихачев , Два митрополита, СПб., 1913 (из сборн. статей в честь Д. Ф. Кобеко); ср. Соколов , ор. с.
Никон., 1346.
Рог. 1321, о великом князе Юрии. Ранее тверской князь сам занимал великое княжение Владимирское.
Никон., 1346 и 1352.
Симеон., Рог., Никон. лл., 1339.
Никон., 1349.
Ср. в указе 1335 г. обращение «aux fonctionnaires ta-lou-houa-tche (darougha) des villes» (Chavannes, Chancellerie mongole, цит. по Cordier, op. c., II, 328).
Gaubіl , Histoire de Gentschiscan… Paris, стр. 135–136; D'Ohsson , op. c., II, стр. 377. О даругах разных классов или разрядов говорит Юань-ши (см. M. G. Dеνèria , Notes d'epigrapbie mongole-chinoise, Paris, 1897, p. 16–17).
Симеон., Рог. и Никон. лл., под 1376 г.; «дарига» упомянут на ряду с «таможником». Об обязанностях «дороги» в XVI в. см. в летописи Нормантского (Временник Московского общ. ист. и др. росс., М, 1850, кн. 5, стр. 8485.
Известно, что в духовной Донского Углич, Галич и Белоозеро названы «куплями деда», т. е. Ивана Даниловича Калита. Так как сохранились, духовные грамоты и самого Калиты, и Семена Ивановича, и Ивана Ивановича, в которых ни один из этих городов не упомянут, нельзя допустить (и никто из исследователей не допускает), чтобы на самом деле территория этих городов была куплена и присоединена к Москве Калитою. Высказывали предположение, что они отошли к «великому княжению». Но утверждать это мы оснований в материале не имеем: во-первых, в духовной Донского они не включены в великое княжение, и текст явственно различает: а) великое княжение, к которому относит Кострому и Переяславль, и б) Галич, Углич и Белоозеро, о которых говорит только, что они «купли деда» Донского; во-вторых, мы видим местных князей (в Галиче, Белоозере). Шаткость предположения (высказано Карамзиным) сознавалась историками, и они выдвинули догадку, что Калита купил эти города у князей, оставив им некоторые права как владетельным князьям, подчиненным московскому (см. у Соловьева); предполагали, что местные князья остались, но как подчиненные московским князьям, и что в этом смысле следует понимать покупки Калиты как покупки «княжении», «власти»; при этом историки замечали, что дело осложнялось и другими обстоятельствами (см. Пресняков , Обр. вел. гос., стр. 152–153). Весьма бедные данные, которые мы находим в материале, не дают, к сожалению, оснований к такому предположению. Имеем только одно известие, именно о белоозерском князе: в 1339 г. Калита почему-то, как сообщает Новг. л., пытался «переимать» шедшего в Орду Василия Ярославского, но тот отбился, а из тверской летописи мы узнаем, что вместе с Василием Ярославским шел в Орду и Романчук Белоозерский. Другое известие относится к началу ордынских смут: во время борьбы за великое княжение Владимирское московского князя с суздальским белоозерский князь Иван был на стороне суздальского князя. Вот все, что мы имеем для того, чтобы судить о правильности высказанного предположения, и мы вынуждены сделать вывод, что предположение это неправильно. В чем же дело? Мы знаем, что с началом ордынских смут московский князь начал подчинять своей воле князей. Галичский князь был прямо выгнан из Галича, и Галич присоединен к Москве. Это навело Сергеевича на мысль, что упоминание о «куплях деда» в духовной Донского имело целью оправдать захват. Белоозерского князя (Константина) мы и позже видим сражающимся против Москвы (1393 г.) на стороне новгородцев. Углич же входил (предположение Экземплярского) в состав Ростовского княжества; а мы знаем, что Донской сделал с ростовским князем: он выгнал его из Ростова и посадил в Ростове Андрея Федоровича. Что же касается Дмитрова, также присоединенного к Москве, но не упомянутого в числе «куплей деда», то возможно, что его присоединение не носило характера захвата, хотя, вероятно, он также был присоединен при Донском. Не известно, чем была вызвана смерть дмитровского князя Бориса («выиде князь великии Иванъ [Калита] изо Орды, — читаем в Рог. л. под 1334 г., — а князь Борис Дмитровскій въ Ордѣ мертвъ»); напомним, что несколько ранее (в 1330 г.) в Орде был убит князь Федор Стародубский, по положение Стародуба не изменилось в том смысле, что там остался княжить сын Федора Дмитрий, а после его смерти Стародуб получил брат его Иван (1335 г.). Дмитрий Донской согнал Ивана Федоровича с его княжения. Относительно же Дмитрова можно предполагать, что он также не остался без князя после 1334 г. (и, во всяком случае, к московскому князю не перешел); там, можно думать, был посажен выехавший из Литвы князь Иван Друцкий (в 1339 г он ходил вместе с татарами и войсками других князей Северо-востока на Смоленск): в духовной грамоте Семена Ивановича, по крайней мере, мы читаем, что Семен купил «село въ Дмитровѣ… у Ивана у Дрюцького».
Читать дальше