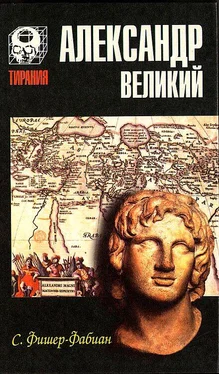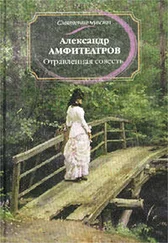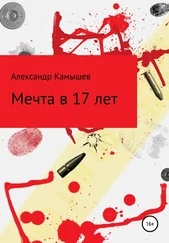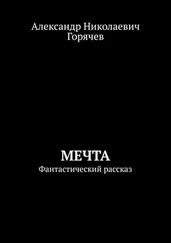Греки и македоняне воспринимали это нововведение с отвращением. Лишь варварам пристало вести себя так, как свойственно рабам. Свободный человек был всегда готов встать на колени перед богами, но если он становился на колени перед равным себе, то терял свое достоинство. Греческие посланники или изгнанники, которые появлялись на аудиенции у царя, всеми правдами и неправдами пытались избежать этих поцелуев, как бы случайно роняли на пол перстень и нагибались за ним. Если увильнуть не удавалось, они запоминали учиненное над ними унижение на всю оставшуюся жизнь. Уже от одного вида сгибавшихся перед Александром персов им становилось не по себе, а некоторые вообще не выдерживали и над этими падающими ниц хохотали во все горло.
Царю это, само собой, нравиться не могло. Соединить греков, македонян и восточные народы было и оставалось целью его жизни. Достигнуть этого было возможно лишь в том случае, если и те и другие будут наделены одинаковыми правами и обязанностями. Почему же верноподданные-земляки не приветствуют своего царя с подобающими ему почестями — разве персы не могли не задаться таким вопросом? Если бы Александр не требовал от персов этих поцелуев, то, видимо, его принцип равноправия был бы осуществлен. Однако он уже успел настолько вжиться в роль «царя царей», что не мог заставить себя отказаться от такого свидетельства почтения. Оставалось непонятным только, как справиться с день ото дня растущим недовольством своих соратников.
Ему помог Гефестион. Вместе с распорядителем придворных церемоний Харесом он устроил — а точнее говоря, инсценировал — пиршество, на которое были приглашены лишь те, кто был готов к новому ритуалу. Такая демонстрация, считал он, должна послужить примером и подействовать на остальных. Среди приглашенных был и Каллисфен. Это приглашение вызвало всеобщее удивление, ведь племянник Аристотеля потерял расположение Александра. На обедах у царя он появлялся крайне редко. А если появлялся, то оставался нем как рыба, если все вокруг превозносили царя, и вступал в споры чаще, чем следовало философу, каковым он считал себя.
Последняя стычка, зачинщиком которой он был, произошла всего лишь за неделю до описываемых событий. На вечернем состязании риторов он взял слово и говорил о добродетелях македонян. Каллисфену бросали венки и цветы, даже царь аплодировал ему и попросил произнести… хулительную речь. «Добрых людей восхвалять легко, — сказал он. — А вот унизить их — это, мне сдается, потруднее. И тем не менее это необходимо. Не похвала, а порицание открывает нам ошибки наши».
Принять это приглашение было небезопасно: оно вполне могло оказаться ловушкой. Но подобная угроза, по-видимому, не смущала придворного летописца. Его обвинительная речь превзошла своим блеском любое воздание хвалы. Все, кто слушал ее, поняли, что слова идут из самой глубины души. Они ворчали, опрокидывали кубки, и в конце концов ужин был сорван. (Узнав об этом, сам Аристотель сказал: «Великий оратор мой племянник, вот только умом не блещет…»)
В качестве историографа похода Александра Каллисфен тем не менее продолжал играть важную роль и оставался авторитетом для молодых. Если бы такая личность, думал Гефестион, все-таки отважилась на то, чтобы показать всем пример и поклониться своему царю (впрочем, в том, что этого никогда не произойдет, сомневаться не приходилось), то значение подобного поступка трудно было бы переоценить.
Незадолго до прибытия на это пиршество царя слово взял, как и было условлено, философ Анаксарх, виртуоз по части лести, «этой беды, постоянно подстерегающей царей, в свержении которых гораздо чаще повинны бывают льстецы, чем враги», как писал Курций Руф. Задачей Анаксарха было настроить гостей соответствующим образом, убедив их в том, что герои Гомера, да и — чего уж там говорить, сам Геракл! — не идут ни в какое сравнение с Александром, который уже при жизни стал богом и может требовать, чтобы к нему и обращались как к богу. И посему посылать ему поцелуи и становиться перед ним на колени должно стать заповедью для всех.
Звуки рога возвещают о прибытии царя. Он, облаченный в персидско-мидийские одежды, подойдя к столу, наливает огромный кубок вина и довольно много (как и подобает богам) проливает на пол. Затем подает кубок одному из персидских вельмож. Перс выпивает вино, подгибает колени и целует кончики своих пальцев, после чего приближается, чтобы, совсем как при дворе Дария, передать царю воздушный поцелуй. Золотой кубок переходит из рук в руки, и каждый, выпив, совершает ритуал проскинезы.
Читать дальше