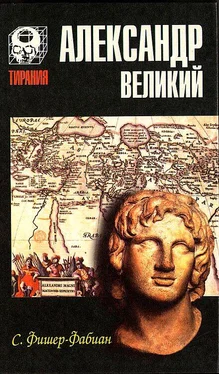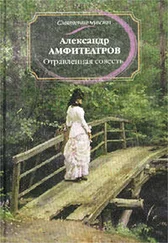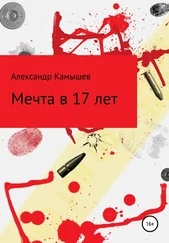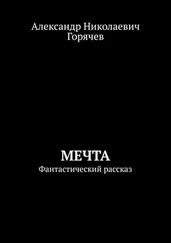Время, проведенное в Тире, было спокойным; недели шли одна за другой без войны и душераздирающих криков. Все пребывало в непрерывном движении, и в течение дня придворный лагерь напоминал пчелиный рой: командиры появлялись для отдачи рапортов, собирался штаб, ведавшие финансами представляли свои расчеты, приходили иностранные посланники, делегации завоеванных городов платили дань, назначались судебные разбирательства под председательством царя, а также аудиенции для тех, кого было важно принять.
К числу последних, несомненно, принадлежали представители Афин, прибывшие на богато украшенной, роскошной галере; их возглавлял знатный горожанин по имени Ахилл. Они прибыли с поручением добиться, наконец, освобождения захваченных в битвах при Гранике и при Иссе афинских пленных. Это было, пожалуй, своего рода наглостью — действовать именем Ахилла, который, как известно, считался предком царя, но Александр игнорировал издевательский умысел и не дал расстроить себя. По отношению к Афинам в течение всей своей жизни он испытывал нечто вроде любви-ненависти. Он ненавидел афинян из-за их высокомерия и вероломства и одновременно завидовал им, вспоминая о культуре, истории, великих людях этого города. Злопыхатели утверждали, что Александр многое отдал бы за то, чтобы его личный враг Демосфен один лишь раз с признательностью похлопал его по плечу. А во время военного похода в Индию он однажды вздохнул: «Эх, вы, афиняне… Если бы вы знали, каким опасностям я себя подвергаю только для того, чтобы вы меня похвалили…» Во всяком случае, он разрешил пленным вернуться на родину — за исключением матросов двадцати афинских кораблей, которые и дальше должны были оставаться в заложниках. Это была необходимая мера, потому что Афины, как и спартанский царь Аргис, все еще угрожали поднять в Греции всеобщее восстание.
И другие пришедшие в гавань корабли тоже ожидали почетной встречи. Посланники Родоса жаловались на злоупотребления македонских наместников и были умиротворены деньгами; делегация Хиоса протягивала руку из-за таких же претензий, а прибывшие с Лесбоса хотели получить компенсацию поместьями. Кипрские вельможи, все сплошь называвшие себя «царями», хотя больше напоминали захудалых князьков, настоятельно напоминали о том, что не напрасно перешли на службу к македонскому царю (что было лишь на словах). Наконец, явились жрецы тирского храма Геракла и предостерегающе возвестили, что для того, чтобы не лишиться божественной милости, нужно принести богу жертву. Древний принцип «дай, чтобы получить» стоил Александру на этот раз золотого сосуда и тридцати серебряных чашек.
Но с самым большим нетерпением здесь ждали тех мужчин, которые, чаще всего — в сумерки, спрыгивали с запыленных лошадей и тотчас же просили доложить о себе в царскую палатку. Это была конная, или, выражаясь современным языком, оперативная разведка. Если в македонской армии и было слабое место, то это явно недостаточное количество обученных разведывательных отрядов, которые выясняли бы обстановку в лагере противника, его численность, расположение, вооружение. При Иссе македоняне в спешном марше двигались вдоль побережья, не зная, что персы в то же самое время проходили параллельно им в противоположном направлении. И на этот раз донесения звучали, скорее, путано и неясно: Великий царь по ту сторону реки Евфрат начал собирать огромное войско. Его ставка находится в Вавилоне. Вскоре поступили новые сообщения, говорившие о том, что Дарий непременно хотел дать решающее сражение. Македонянин тоже хотел его, но лишь тогда, когда персы призовут в свою армию всех до последнего. На этот раз их нужно было разбить окончательно, чтобы уже больше не было необходимости в дальнейших сражениях. Он решил все поставить на карту и, вопреки своей привычке, подождать. Это было вдвойне опасно.
Шел апрель 331 года до н. э., и со времени битвы при Иссе, то есть в течение двух лет, его солдаты не участвовали, если не считать отдельных столкновений, ни в каких серьезных и кровавых баталиях. Они находились в своих лагерях, получали довольствие, чистили отхожие места, продолжали упражняться в боевом искусстве, но в неуютные палатки стала заползать скука, расшатывая дисциплину. Обстановка и без того была нервной и взвинченной — как всегда, когда люди вынуждены жить вместе на ограниченном пространстве, зная характер и привычки друг друга до мелочей, когда давно известно, кто и какую историю расскажет, чем и от кого пахнет, кто и как отрыгивает или справляет нужду. Уроженец македонского нагорья начал ненавидеть своего земляка с равнины, фессалиец — фракийца, агрианин — ионийца, и все вместе они ненавидели своих военачальников.
Читать дальше