Средневековых римлян, не ценящих своих памятников, он, приезжий, ставит невысоко — антиримский и антипапский мотив, впрочем, типичный в литературе, от Вальтера Мапа до Данте [153] В «Забавах придворных», написанных в Англии в 1180-е годы, слово «ROMA» расшифровывается как «Radix omnium malorum avaritia»: «Корень всех зол — алчность» ( Walter Map. De nugis curialium. II, 17 / ed. by M. R. James. Oxford, 1983. P. 168). Магистр Григорий мог быть знаком с этой популярной энциклопедической сатирой ( Мап В. Забавы придворных / изд. подгот. Р. Л. Шмараков. СПб., 2020. (Лит. памятники)).
. Но дух гуманиста-антиквара в нем настолько силен, что он не делает исключения для самого св. Григория Великого, их «соучастника», виновного в гибели бронзового «Колосса»: «После того, как были разрушены и обезображены все римские статуи, св. Григорий разрушил эту скульптуру следующим образом: не в силах никакими средствами снести такую громаду, он приказал развести под идолом большой костер, превратил великую статую в грубую материю и вверг ее в древний хаос» [154] «Hanc autem statuam post destructionem omnium statuarum que Rome fuerunt et deturpacionem beatus Gregorius hoc modo destruxit. Cum tantam molem multa vi et gravi conamine non posset evertere, copiosum ignem idolo supponi iussit et sic immensum illud simulacrum in antiquum chaos et rudem materiam redegit» ( Magister Gregorius. Op. cit. Cap. VI. P. 158).
. Иоанн Солсберийский, кажется, первым ассоциировал Григория Великого с разрушениями в Риме, но эта констатация, сама по себе симптоматичная, лишена какой-либо эмоциональной окраски [155] Johannes Saresberiensis. Policraticus. P. 370.
.
Для своего времени следующее за этой филиппикой против Отца Церкви описание — шедевр антикварного поиска. Григорий, как и мы сегодня, видит лишь почтенные фрагменты античного чуда. Характерно, что он находит нужные слова для выражения своего восторга не только размером произведения, но и мастерством скульптора, превращающего грубую материю в прекрасные локоны. Размер, конечно, традиционно вызывал восхищение: до XV в. крупные бронзовые статуи отливать просто не умели [156] Frugoni Ch. L’antichità: dai Mirabilia alla propaganda politica // La memoria dell’antico… T. I. P. 33.
. Тем очевиднее на этом фоне преступление Отца Церкви (у которого автор вовсе не отнимает святости), ввергающего красоту в первобытный хаос — гипербола призвана усилить эмоциональное воздействие на читателя. В своем антипапском сарказме Григорий пошел дальше своих современников, критики папства не чуждых. Это не невинный оборот речи, потому что перед нами — автор высокообразованный, он создает не просто каталог достопримечательностей, но именно рассказ, основанный на приемах добротной риторики. Именно поэтому рассказчику при виде Рима почему-то сразу приходит на ум цитата из «Фарсалии».
Григорий с удовольствием пересказывает местные предания о древностях, одно фантастичнее другого, но не скрывает, что это именно «сказания». Само хождение этих сказаний в образованных кругах Рима — свидетельство своеобразного самосознания города, его специфического отношения к своей истории. Не менее важна и фиксация его образованным иностранцем, одновременно присматривающимся к руинам и критически прислушивающимся к тому, что о них рассказывают. Григорий отдает себе отчет в том, что памятники обращаются к нему, человеку 1200 г., с неким посланием. Желая поделиться с современниками собранными на месте новыми знаниями, он умело подыскивает слова для рассказа: в результате представленное им, пусть в нескольких разрозненных главах, описание Латерана и его античных «реликвий» фактически засвидетельствовало в подробностях существование первого в истории Европы музея под открытым небом — того самого, который за четыре столетия до него собрал мечтавший о временах Константина I и Сильвестра I папа Адриан I (772–795) [157] Herklotz I. Op. cit. P. 75–87. Латеранский «музейный комплекс», Campus Lateranensis, был знаменит на всю Европу, в том числе потому, что к XII–XIII вв. он уже был окружен всевозможными удобствами для тысяч паломников. На тотальное его переустройство решился лишь Сикст V, пощадивший лишь баптистерий, личную папскую капеллу св. Лаврентия (Sancta Sanctorum) и Святую лестницу. О его политическом и религиозном значении вплоть до позднего Средневековья см. также в статье М. А. Бойцова в нашей книге (с. 152–153).
, а затем воссоздал в Аахене Карл Великий. Обходя триумфальную арку, Григорий пересказывает увиденное на рельефах, которые одним обилием персонажей, типичным для такого рода памятника, легко сбивают с толку современного туриста. Григорию же удается не просто расшифровать историю Клеопатры, основываясь на знаниях классики, но и взбудоражить воображение читателя сравнением паросского мрамора с бледнеющей кожей умирающей царицы [158] «Ibi opere mirabili Actiacum bellum simulatur, in quo Cesar, preter spem victorie superior factum in certamine, Cleopatram biremi quadam fugientem persequitur capturoque similis Cleopatra subducitur et appositis aspidibus mammis suis in Pario marmore superba mulier moritura pallescit» ( Magister Gregorius. Op. cit. P. 170 (Cap. XXIV)).
. Praesens historicum традиционно давал писателю возможность окунуть читателя в гущу событий. Здесь же он приглашает читателя взглянуть на рельеф глазами пишущего — ровно так, как это и сегодня делает историк искусства, описывая и анализируя свой памятник. Описание памятника не невинно, ведь белизна паросского мрамора (белого всегда и везде) оказывается уместной именно для описания умирающей гордячки, словно Григорий вспомнил из школьных лет пространный экфрасис, в котором Вергилий описал «щит несказанный», подарок Венеры Энею. В его иконографии нашлось место и Клеопатре:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
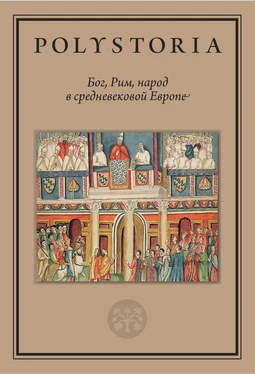






![Ольга Петерсон - Наследники Вюльфингов [предания германских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой, О. Петерсон]](/books/394392/olga-peterson-nasledniki-vyulfingov-predaniya-ger-thumb.webp)
![Ольга Петерсон - Рыцари Круглого Стола [предания романских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой и О. Петерсон]](/books/399771/olga-peterson-rycari-kruglogo-stola-predaniya-rom-thumb.webp)


