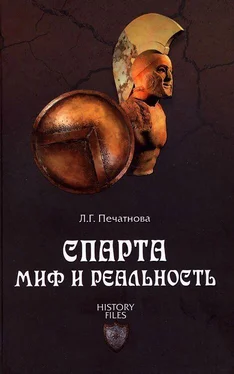Все эти категории спартанского населения были свободными людьми, по относились к так называемым ατιμοι, т. е. не были полноправными гражданами. О степени их недовольства своим положением есть прямое свидетельство Плутарха: нищая и бесправная толпа пребывала «в постоянной готовности воспользоваться любым случаем для переворота и изменения существующих порядков» (Agis. 5. 7). Такая армия недовольных, конечно, страшила правящую элиту, и поддержка, которую оказали Агису некоторые из ее представителей, во многом объясняется страхом перед потенциально опасной толпой. Никаких данных о численности маргинальных групп внутри спартанского гражданства мы не имеем. Но, судя по тому, что Агис предполагал увеличить количество граждан в несколько раз, доведя его до четырех-пяти тысяч (8. 1–2), гипомейонов было, вероятно, около двух тысяч и примерно столько же неодамодов, мофаков и иностранцев [266]. Именно эти категории спартанского населения являлись основной целевой группой программы Агиса.
Общепринятым является мнение, что на мировоззрение царей-реформаторов оказало сильное влияние учение стоиков, особенно модная тогда идея о возврате к старинным добродетелям предков. Идеи стоиков были хорошо известны в Спарте и имели для спартанцев большую притягательную силу. Известно, что учителем Клеомена был философ-стоик Сфер Борисфенский, ученик Зенона (Plut. Cleom. 2). Несмотря на полное молчание источников, некоторые ученые полагают, что Сфер мог принимать участие и в воспитании будущего царя Агиса. Так, по словам В.Г. Васильевского, «философская пропаганда Сфера началась ранее, чем государственная деятельность Агиса» [267]. Но чаще высказывается мнение, что Сфер прибыл в Спарту, когда Агис уже вступил на престол [268].
В любом случае опосредованно или непосредственно философия стоиков и пропаганда Сфера оказали определенное воздействие на мировоззрение молодого Агиса и его ближайшего окружения, хотя сам Сфер, согласно Плутарху, появился в Спарте только при Клеомене. Именно Сфер мог внушить своим ученикам идеи преобразования спартанского общества по ликургову образцу и предложить план возрождения прежней великой Спарты. Его особый интерес к Спарте выразился в написании двух трактатов, посвященных спартанской «тематике: «О спартанском государственном устройстве» и «О Ликурге и Сократе» (Diog. Laert. VII. 178) [269]. Спарта стала для ранних стоиков своеобразным полигоном. Здесь с успехом можно было развивать две любимые темы их сочинений: значение монархической власти и особенности спартанского государственного устройства. Борьба Агиса и Клеомена с эфорами имела под собой теоретическую базу. Именно стоики внушали своим спартанским ученикам мысль, что эфорат — институт незаконный, что эфоры, уничтожив первоначальную царскую власть, мешают вновь обрести «самое прекрасное, поистине божественное устройство» (Plut. Cleom. 10. 6–7). В какой мере впущенные стоиками идеи и установки повлияли на дальнейшую политическую деятельность царей-реформаторов, трудно сказать [270]. Но такое влияние, бесспорно, было: реформы осуществляли идейные цари, верившие в возможность возродить Спарту согласно теоретическим моделям стоиков.
Агис в изображении Плутарха (Филарха) — это патриот, равных которому давно не было в Спарте. Филарх, по-видимому, верил, что реформы, задуманные Агисом, имели целью исключительно реставрацию ликургова космоса. С большой симпатией он описывает поведение двадцатилетнего царя, исполненного юношеского экстремизма и сознательно изменившего свой образ жизни по старинным ликурговым лекалам. Плутарх, скорее всего, буквально цитирует Филарха, перечисляя детали спартанской аскезы, которую на себя добровольно наложил юный царь: «Воспитанный в богатстве и роскоши… он сразу же объявил войну удовольствиям, сорвал с себя украшения… решительно отверг какую бы то ни было расточительность, гордился своим потрепанным плащом, мечтал о лаконских обедах, купаниях и вообще о спартанском образе жизни и говорил, что ему ни к чему была бы царская власть, если бы не надежда возродить с ее помощью старинные законы и отеческое воспитание» (Agis 4. 2).
Агис, приступая к своим реформам, был отнюдь не одинок. Он стал во главе партии, состоящей из его единомышленников. Но это были единомышленники из его собственной социальной среды. Так называемые народные массы оставались лишь объектами реформ, пассивными зрителями политических страстей, кипевших наверху.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу