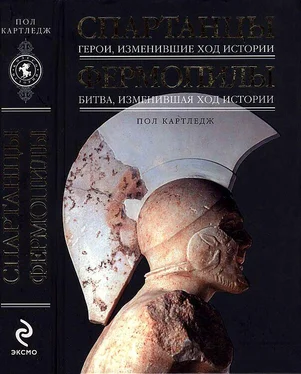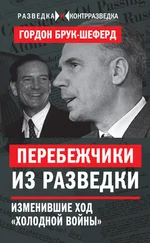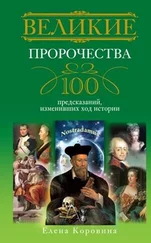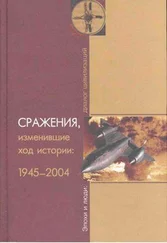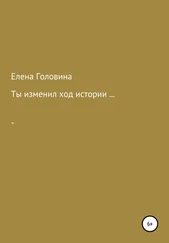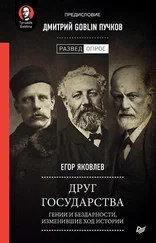С другой стороны, афинян, напротив, столь воодушевили их довольно хорошие действия при Танагре, что через несколько месяцев они превратились в хозяев почти всей Беотии, создав нечто вроде миниатюрной сухопутной империи в дополнение к их растущей морской державе в Эгейском море. Одной относительной неудачей Спарты была потеря Эгины, стратегически важного острова в залив Сароникос, настолько заметного из Афин, что Перикл памятно назвал его «ячменем на глазу Пирея». Эгина была пелопоннесским союзником, которого теперь афиняне осаждали и покоряли, наказывали жителей, изгоняли их и заменяли собственными колонистами. Самое большее, что могли сделать спартанцы в этих обстоятельствах, это предложить жителям Эгины новый временный дом на своей государственной территории в Кинурии (известной так же как Фиреатида) на северо-восточной границе с владениями их неустрашимого врага Аргоса. На практике этот период продлился более полувека.
Так называемая Первая Пелопоннесская война тянулась еще десятилетие, пока Афины не обнаружили, что перестарались, пытаясь сохранить контроль над своей сухопутной империей в центральной Греции, так же как и над морской. В 446 г. Афины столкнулись с одновременными восстаниями со всех сторон — на западе в Мегаре (в прошлом также сторонницы Спарты в Пелопоннесском союзе) и на острове Эвбея. Здесь, конечно, для Спарты существовал шанс предпринять решительное вторжение, и царь Плистоанакт, достигший совершеннолетия после Танагры, в самом деле повел союзническую армию через Истм на восток и проник на территорию афинских владений. Но когда он оказался по соседству с Элевсином, то мистическим образом решил отступить. Это дало Афинам передышку, позволившую восстановить свою власть, по крайней мере, на Эвбее (стратегически более важной, чем Мегара). Вскоре обе стороны начали переговоры, которые завершились договором, известным по его вероятной продолжительности как «Тридцатилетний мир».
Суть договора заключалась в том, что каждая сторона должна была «сохранить то, что имела», то есть спартанцы в результате «признавали» Афинскую империю, в то же время афиняне в свою очередь «признавали» спартанскую гегемонию в Пелопоннесском союзе. Таким образом, большая часть материковой Греции была поделена на два больших блока, между которыми предполагалось сохранение некоего баланса власти. Плистоанакт, однако, был наказан свержением и изгнанием за то, что, видимо, был принципиальным сторонником тезиса «двойственной гегемонии» Кимона и что толковалось его внутренними врагами как предательство высших интересов Спарты. Ему пришлось оставаться в изгнании в аркадском святилище в течение почти двадцати лет.
Очевидно, это были те же самые враги, вынужденные неохотно согласиться на мирные условия 445 г., которые в течение всего лишь четырех или пяти лет так стремились разрушить мир, предположительно длившийся тридцать лет. В 441 г. несколько самосцев пришли в Спарту, последовав примеру своих предков, уговоривших спартанцев отправить морскую экспедицию для свержения тирана Поликрата в 525 г. Они были не менее убедительны, так что возникает вопрос, не действовали ли тут какие-нибудь мощные личные связи между ведущими спартанцами и самосцами? Как бы то ни было, Геродот говорит, что он однажды повстречал в Спарте некоего Архия, чей дед с тем же именем участвовал в походе 525 г. и за свою выдающуюся отвагу заслужил государственные похороны самосцев. Очевидно, молодой Архий имел достаточно влиятельный голос, чтобы призвать спартанцев на помощь жителям Самоса, возглавляемых влиятельными олигархами, стремившихся поднять восстание против Афинской империи.
Однако уговорили самосцы только спартанцев, но не их коринфских союзников в отличие от ситуации 525 г., а коринфянам удалось уговорить большинство других пелопоннесских союзников в этом особом случае не «последовать за спартанцами, куда бы они ни повели их». Несомненно, это было осмотрительное решение. Спартанский альянс еще не обладал какими-то морскими силами, необходимыми для того, чтобы принять вызов и разбить афинян на море, даже если ближайший персидский наместник царя в Сардах собирался снабжать их деньгами и, возможно, солдатами. Во всяком случае, Самосское восстание потребовало от Афин очень длительной и дорогостоящей морской блокады, осуществленной Периклом и, в конце концов, спровоцировало исключительные меры примерного возмездия и наказания после его подавления. На самом деле, оглядываясь назад с позиций 411 г. до н. э., некоторые самосцы замечали, что восстание 440–439 гг. почти стоило афинянам их господства на море, а именно в восточной части Эгейского моря.
Читать дальше