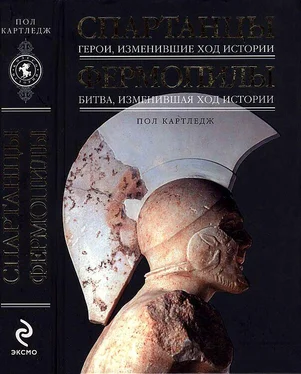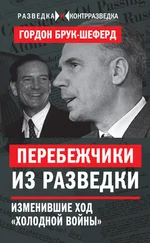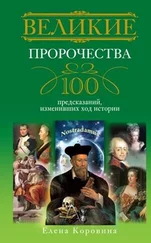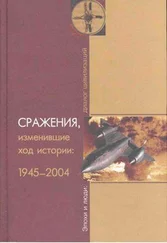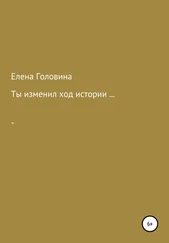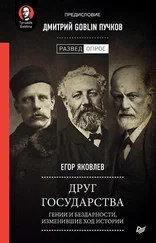После Фермопил (поражение) и морского сражения при Артемисии (ничья) следующим большим столкновением была морская битва при Саламине в конце сентября 480 года, в которой верные греки под блестящим предводительством инакомыслящего афинского политика и генерала Фемистокла (хотя формально спартанец Эврибиад и оставался адмиралом флота) одержали полную победу. Некоторые современные критики, а также древние, включая Геродота, считали эту битву решающей в этих войнах. На самом деле таковой была сухопутная битва при Платеях, имевшая место в Беотии летом 479 г., под общим командованием спартанского регента Павсания и выигранная, соответственно, великолепными спартанскими гоплитами. Но даже эта битва не была окончанием. Однако четвертое заключительное сражение, с морским десантом при Микале на побережье Азии напротив греческого острова Самос, было скорее началом следующей фазы греко-персидского конфликта, нежели окончанием Греко-персидских войн 480–479 гг.
Эта битва открыла путь к образованию Делийского союза с центром в Афинах (478–477 гг.), который в скором времени превратился в афинскую морскую империю, а также к комбинированной десантной битве на реке Эвримедон в Памфилии приблизительно в 466 году. Напротив, спартанцы вполне предсказуемым образом неохотно становились моряками. Хотя формально царь Леотихид являлся верховным командующим в Микале подобно Эврибиаду в Саламине, его пришлось уговаривать оставить безопасные Киклады ради континента, на который к тому времени еще не вступала нога спартанского царя (и, собственно, не вступит до Агесилая в 396 году). Он не принял участия в преследовании персов до Геллеспонта, не говоря уже об освобождении греков в Македонии и Фракии, все еще находившихся под властью Персии. Фактически, странным образом предвосхищая Лозаннский мирный договор 1923 года, он предложил в качестве решения проблемы азиатских греков принудительный обмен населением: переселение их в материковую Грецию на земли, занимаемые предателями, перешедшими на сторону персов, которые должны быть подвергнуты «зачистке» и выселены в Азию, к которой духовно принадлежат.
Таков исторический фон войны и империи, который я намерен детально проанализировать в связи с ролью, которую в 480 г. сыграли спартанцы, признанные лидеры «греков» в сопротивлении персидскому нашествию под предводительством Ксеркса. Я не буду скрывать зверств, предательства и мерзостей войны — любой войны, всех войн. Но я также — и в еще большей степени — подчеркну позитивные последствия конкретно этих Греко-персидских войн, хотя сами спартанцы по большей части предпочитали не быть активными участниками этих последствий. Быстрое развитие первой в мире системы по-настоящему организованной прямой демократии, как и создание вдохновенных и бессмертных произведений литературного и визуального искусства являлись в основном достижениями афинян или тех, кто был радикально вдохновлен культурой демократических афинян. С другой стороны, даже достижения Афин не лишены своей темной стороны. Создание афинянами морской державы на базе продолжавшегося сопротивления Персии вызывало не вполне лишенные оснований обвинения в экономической эксплуатации и жестоком империалистическом угнетении предположительно свободных союзников, а знаменитое афинское серебро, которым в пятом веке и позже финансировался флот и многое другое, был получен за счет каторжной работы рабов нередко в смертельных условиях чудовищной жары.
Темная сторона спартанской «полной луны», вероятно, еще более очевидна. Решение спартанцев основывать всю свою politeia — политический и социальный режим и образ жизни — на эксплуатации греческого низшего класса, илотов, должно навсегда бросить тень на ореол их славы. «Плотский вопрос» настолько навязчив и потенциально разрушителен, что некоторые современные поклонники Спарты делают вид, что власть спартанцев над илотами была не таким уж злом (если бы была, то как она могла продолжаться в течение четырех столетий?) или не столь значительна (спартанцы, включая двух самых выдающихся персонажей нашего повествования — царя Леонида и регента Павсания, — были на самом деле за освобождение илотов и предоставление им гражданских прав, но, к сожалению, их усилия были сорваны менее дальновидными и более реакционными согражданами. Увы, это утверждение — просто принятие желаемого за действительное. Древние почитатели Спарты — «лаконизаторы», как их называли — были куда менее щепетильны и сентиментальны. Они либо воспевали тот факт, что в экономическом отношении Спарта была самой свободной греческой территорией благодаря эксплуатации илотов, либо утверждали, что спартанская politeia была столь восхитительна и заслуживала подражания в качестве идеала, что несвобода илотов была вполне терпимой и, по существу, необходимой платой за нее. Мое собственное мнение и, надеюсь, взвешенное суждение таково: не будь спартанский режим таким, каким он был, со всеми войнами и прочим, спартанцы не смогли бы сыграть той решающей роли при Фермопилах и в прочих конфликтах 480–479 годов, которую они безусловно сыграли. Таким образом, спартанцам принадлежит парадоксально двойственная, даже противоречивая роль в истории западной свободы как практики, так и идеала.
Читать дальше