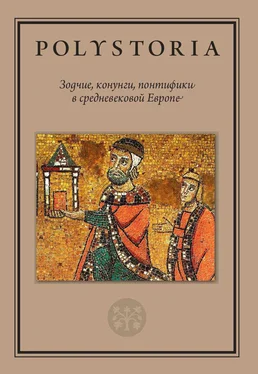В то же время, помимо перечисленных идиом, существует слово, которое буквально можно перевести как «люди мухи» (flugumenn) или «человек мухи» (flugumaðr), присутствующее не только в родовых сагах («Сага о Бьёрне, Богатыре с Хит-реки» [257], «Сага о Глуме Убийце» [258], «Сага о людях со Светлого Озера» [259], «Сага о людях из Долины Дымов» [260], «Сага об иудеях» [261]и др.), но — что гораздо важнее — и в законодательстве [262]. В законах Норвегии этот правовой термин означает не кого иного, как подосланного убийцу, человека, которого наняли или уговорили совершить преступление, выгодное кому-то другому, а отнюдь не того, кого используют лишь для приманивания жертвы, не, так сказать, человека-наживку. Норвежские судебники выделяют таких «убийц не для себя» в особую категорию, запрещая хоронить их на церковном кладбище, в освященной земле [263].
Нетрудно убедиться, что и в сагах все случаи употребления соответствующих идиом и этого термина связаны прежде всего с тем, что человек с того момента, как он проглотил муху , как бы начинает осуществлять не свою волю, действует в чужих интересах, зачастую наперекор своим собственным. Иногда он поступает так в результате обмана, однако этот компонент не является обязательным и доминирующим. Гораздо чаще участник этой ситуации в целом представляет, на что он идет, но сохраняет свободу действия лишь до того момента, пока по тем или иным обстоятельствам не впустил в себя муху.
В этом отношении особенно выразителен скальдический стих, где интересующий нас оборот « схватить, заглотить муху » появляется дважды, один раз — непосредственно, а другой — в зашифрованном виде. В эпоху крещения Исландии (999/1000 г.), когда на острове активно действовал немецкий миссионер по имени Тангбранд, посланный из Норвегии конунгом Олавом Трюггвасоном, группа воинствующих язычников вознамерилась убить священника. После серии неудачных покушений (в том числе с применением колдовства) Торвальд Хворый, один из предводителей язычников, попытался заставить Ульва, сыну Угги, напасть на Тангбранда и убить его. Пожелание Торвальда было выражено в виде скальдической висы (строфы), на которую Ульв ответил другой висой, где, среди прочего, было сказано следующее:
Я не впущу посланного баклана [= муху] в убежище/пещеру зубов [= рот] […] не по мне (т. е. «не в моем стиле»), [о] попечитель рысака реи [= муж, т. е. Торвальд Хворый; [рысак реи = корабль]], глотать муху [264].
Как кажется, этот семантический компонент «действовать не по своей воле» связан с особой — магической — функцией, присваиваемой мухев северной традиции. В Скандинавии зафиксировано некогда широко распространенное поверье, согласно которому колдун может посылать мух, чтобы непосредственно умертвить свою жертву, или — что для нас еще более интересно — колдун насылает мух на некоего человека, которого он избрал своим орудием. Проглотив или вдохнув такую муху, впустив ее в рот, тот становится исполнителем чужой воли, воли колдуна, и убивает жертву, так сказать, «по заказу», потому что она враждебна колдуну, а отнюдь не ему самому. По указанию P. Клизби (со ссылкой на словарь Верелиуса), в шведских законах человек мухи — это терминологическое обозначение не кого иного, как колдуна, а вовсе не подосланного убийцы, как у норвежцев. Иначе говоря, в двух близких правовых традициях термин поочередно отсылает то к пассивной, то к активной стороне ситуации: у шведов это, так сказать, повелитель мух, а у норвежцев — их потребитель. Сама же муха, таким образом, мыслится как источник ментальной заразы, именно она заставляет людей, независимо от их собственных устремлений, вести себя так, а не иначе. В позднейших фольклорных текстах встречается обозначение galdrfluga или gandrfluga , т. е. «колдовская муха», — как только человек проглотил такое насекомое, он неизбежно оказывается под его воздействием и должен исполнять то, ради чего оно было послано [265].
Возвращаясь, наконец, к знамени Сверрира, мы можем — в свете только что намеченной перспективы — предположить, что его имя (Sigrfluga) построено на том, что этот стяг разносит, сеет победу вокруг себя, заставляет побеждать тех, кто под ним собрался. Прежде чем перейти к более подробному обоснованию этого ключевого для нас тезиса, следует сказать несколько слов об общих функциях стяга. В чем-то эти функции проявляют феноменальную устойчивость, и сегодняшний символизм боевого знамени напрямую наследует символизму средневековому, что само по себе достаточно нетривиально. В то же время у викингов и несколько позднее знамя, конечно, куда более непосредственно ассоциируется с, так сказать, магией прямого действия. Можно вспомнить как раз те знамена, которые носят имя и (или) изображение ворона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу