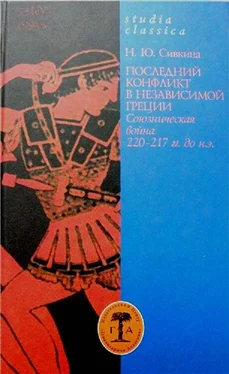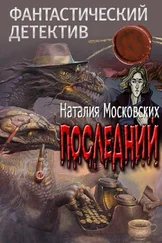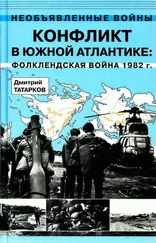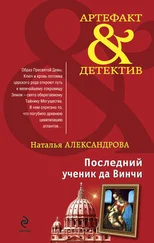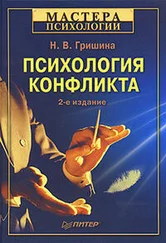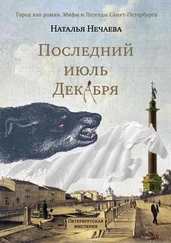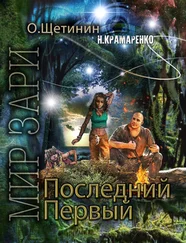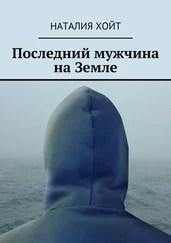Глава VIII.
Заключение мира и итоги войны
Когда представители греческих государств собрались на совет, Филипп отправил к этолийцам Арата, Таврнона и еще несколько человек на переговоры (Polyb., V, 103, 1). Этолийцы предложили царю переправиться с войском на их территорию (Polyb., V, 103, 3). Филипп расположился лагерем недалеко от Навпакта, сюда же прибывали этолийские послы (Polyb., V, 103, 4–6). Для обсуждения мирных условий царь отправил к ним синедров (Polyb., V, 103, 7). Первое и основное положение будущего договора гласило, что каждая сторона останется при своих владениях (Polyb., V, 103, 7). Мир на принципах status quo, естественно, устраивал этолийцев. Далее последовало обсуждение частных вопросов (Polyb., V, 103, 8). Полибий сохранил информацию лишь о переговорах с Этолией. Вероятно, со Спартой и Элидой тоже был заключен мир [508]. Допустимо предположение, что представители этих государств также присутствовали в Навпакте.
Полибий не сообщает подробностей ни о предъявленных к этолийцам требованиях, ни о процедуре принятия мирных условий. Как отметил ахейский историк, самым примечательным из выступлений послов было воззвание уроженца Навпакта Агелая, обращенное к македонскому царю и его союзникам (Polyb., V, 103, 9). Дословное изложение этой речи приводит Полибий (Polyb., V, 104):
«Он [Агелай] говорил, что для эллинов должно быть всего желаннее никогда не воевать друг с другом, что они должны вознести богам великую благодарность, если, пребывая в полном согласии, крепко взявшись за руки, как бывает при переправе через реку, они в состоянии будут отражать общими силами нашествие варваров и спасать свои жизнь и свои города. Если же вообще (τό παράπαν) это невозможно, то он желал бы, чтобы по крайней мере на этот раз (κατά γε τό παρόν) они соединились между собою и оберегали друг друга в такое время, когда на западе встали сильные полчища и возгорелась великая война. И теперь уже для всякого ясно, кто хоть немного разумеет в государственных делах, что, восторжествуют ли карфагеняне над римлянами, или римляне над карфагенянами, победитель ни в каком случае не удовольствуется властью над италийцами и сицилийцами, что он будет простирать свои замыслы и поведет свои войска далеко за пределы, в каких подобало бы ему держаться. Поэтому навпактиец Агелай убеждал всех, наипаче Филиппа, принять меры против грозящей опасности. Благоразумие внушает, чтобы он перестал обессиливать эллинов (καταφθείρειν τούς Έλληνας) и тем готовить в них легкую добычу для злоумышляющего врага, чтобы он, напротив, берег их как самого себя и вообще заботился о них, как о своем собственном достоянии (ώς οίκείων καί προσηκόντων αύτω). Таким способом действий, говорил он, Филипп стяжает себе благоволение эллинов и найдет в них преданных пособников (βεβαίους συναγωνιστώς) в своих предприятиях; тогда и иноземцы будут меньше посягать на его владычество, устрашаемые верным союзом с ним эллинов. Если царь стремится к приумножению своих владений, то он советует ему обращать взоры на запад и зорко следить за нынешними войнами в Италии, дабы в положении мудрого наблюдателя выждать удобный момент и попытаться добыть себе всемирное владычество (της των όλων άντιποιήσασθαι δυναστείας). Настоящий момент благоприятствует таким стремлениям. Распри и войны с эллинами он убеждал царя отложить до времен более спокойных и позаботиться больше всего о том, чтобы сохранить за собой возможность заключать с ними мир или воевать по своему желанию. "Если царь допустит только, чтобы поднимающиеся теперь с запада тучи (τά προφαινόμενα νυν άπό της έσπέρας νέφη) надвинулись на Элладу, то следует сильно опасаться, как бы у всех нас не была отнята свобода мириться и воевать и вообще устраивать для себя взаимные развлечения, — отнята до такой степени, что мы будем вымаливать у богов как милости, чтобы нам вольно было воевать и мириться друг с другом, когда хотим, и вообще решать по-своему наши домашние распри"».
Точки зрения современных исследователей и на подлинность, и на конкретное содержание этой речи расходятся весьма существенно. С одной стороны, сам автор неоднократно в своем произведении подчеркивал теоретические принципы использования речей: историк свободен выбирать самые существенные речи среди массы находящегося в его распоряжении материала; он может сократить речь, чтобы сконцентрироваться на предметах первой необходимости, может воспользоваться собственными словами и фразеологией; но историк не имеет права искажать ее фактическое содержание, главные аргументы должны быть сохранены (II, 56, 10; III, 20, 1; XII, 25; XXIX, 12, 9–10; XXXVI, 1, 2–7). Однако Полибий далеко не всегда соблюдает провозглашенные им же самим правила написания истории. Вполне очевидно, что он вводил в речи персонажей собственные мысли и идеи. Если хотя бы одна из приведенных им речей будет признана фиктивной, то это даст повод ученым сомневаться и в отношении всех остальных свидетельств ахейского историка. Поэтому дискуссии вокруг выступления Агелая не утихают до сих пор.
Читать дальше