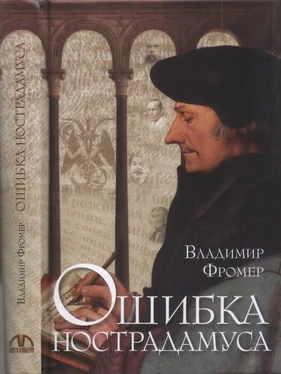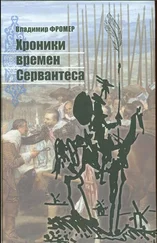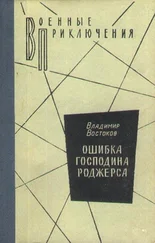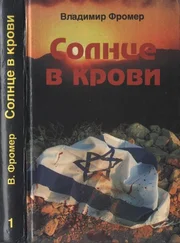А потом грянула война, и вместе с ней пришла катастрофа, уничтожившая все его благополучие. Уже в первые дни войны Луговской отправился военным корреспондентом на Северо-Западный фронт, но случилось так, что поезд, в котором он находился, попал под бомбежку в районе Пскова. Почти все его пассажиры погибли. Полыхали вагоны. Как звери выли заживо сгорающие люди. Луговской каким-то чудом выполз из-под обломков горящего вагона, весь покрытый кровавыми ошметками. От полученного стресса он уже не оправился. Как сомнамбула вышел из окружения и вернулся в Москву уже сломленным человеком. Никогда больше не писал он стихов в киплинговской манере. Этот веселый, всегда подтянутый, сильный и энергичный человек изменился до неузнаваемости. Его руки тряслись, глаза покинул прежний блеск. В свои сорок лет он выглядел, как развалина. Хуже всего то, что его стали считать трусом. Близкий друг и ученик Луговского Константин Симонов записал в дневнике: «Человек, которого я за несколько месяцев до этого видел здоровым, веселым, еще молодым — сидел передо мной в комнате, как груда развалин, в буквальном смысле этого слова. …Я видел уже на фронте потрясенных случившимся людей, я видел людей, поставленных обрушившимися на них событиями на грань безумия и даже перешедших эту грань. То, что это вообще могло случиться с человеком, меня не удивило, меня потрясло то, что могло случиться именно с Луговским».
И действительно, он тяжел заболел, волочил ногу. Его нервная система полностью распалась. Коллегия врачей его комиссовала. Луговской оказался в эвакуации, в глубоком тылу, в Ташкенте, среди женщин и стариков. Он был потрясен, не мог осознать, как такое с ним могло случиться. Все его друзья и ученики находятся на фронте, а он, считавшийся героическим летописцем эпохи, оказался здесь, чтобы медленно подыхать от водки и ненависти к самому себе. Иногда этот опустившийся человек навещал Ахматову.
Однажды после его ухода Анна Андреевна сказала своему пятнадцатилетнему «оруженосцу» Эдику Бабаеву: «Луговской по своему душевному складу мечтатель с горестной судьбой, а не воин».
Но ничто не вечно в этом мире, ни радость, ни горе. Уже в 1944 году Луговской вернулся в Москву. Постепенно все потерянное к нему вернулось, и муза тоже. Он стал писать ярче, сильнее и искреннее, чем прежде, и после 12 лет работы закончил лучшую свою книгу, сборник поэм «Середина века». Она написана белым стихом, напряженно-емким пятистопным ямбом. Эта форма дала поэту возможность вместить огромное количество жизненного материала, где факты, размышления, судьбы и исповеди, искрясь и переливаясь, текут мощным раскованным потоком.
Владимир Луговской умер 5 июня 1957 года, за два месяца до опубликования его сокровенной книги, так не узнав, какой мощный резонанс она вызвала.
А я публикую здесь его лирическое стихотворение, которое очень люблю. Его нет у меня под рукой, и записываю по памяти.
* * *
Какой ты была, я теперь не припомню,
Я даже не знаю, что сталось с тобою.
Остались жилищные площади комнат,
И общее небо — для всех голубое.
А правда осталась, что жизни дороже?
А ложь не забылась, что смерти страшнее?
Была ты милей, справедливей, моложе,
Я тоже казался намного прямее.
С тех пор я узнал невеселые вещи:
Дешевую дружбу и подлость глухую,
Но сердце, тебя вспоминая, трепещет,
И я по тебе, как ребенок, тоскую.
Хотел бы уснуть, но не знаю покоя,
Хотел бы забыть, но приходится думать.
Осталось старинное право мужское:
Терпеть по-солдатски, без лишнего шума.
Литературная судьба Нины Королевой складывалась на редкость удачно. Стихи ее часто появлялись в литературной периодике. Книжки выходили одна за другой. Уже с начала шестидесятых годов она приобрела известность в литературных кругах Петербурга, где как раз в то время формировалась питерская поэтическая школа, соперничавшая с московской. Ее костяк составили «птенцы гнезда Глеба Семенова»: Кушнер, Горбовский, Соснора, Британишский, Гордин, сама Нина Королева и другие.
В юности Нина была тоненькой девушкой с русой косой, по ее собственному определению, «холодной и хрустальной, фригидной, любопытной и бесстрашной». На ленинградском филфаке ее прозвали «Снежной королевой». Правда, фригидность исчезла, как только начались первые влюбленности в веселые и сумасбродные шестидесятые годы. Об этом свидетельствует ее предельно откровенная любовная лирика:
Читать дальше