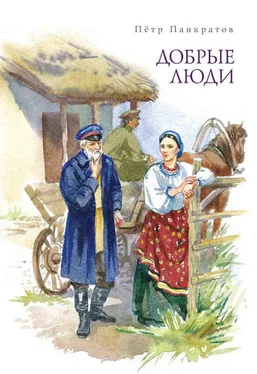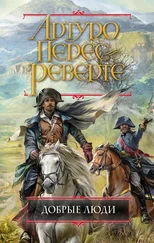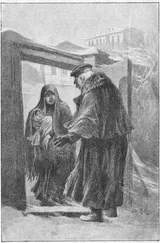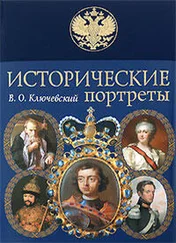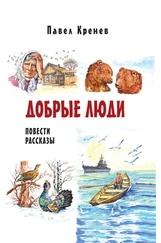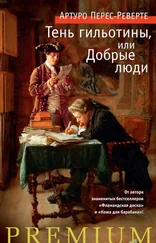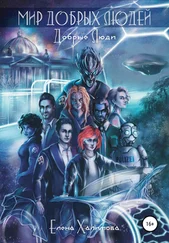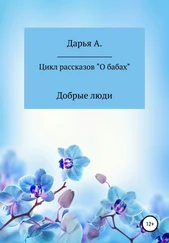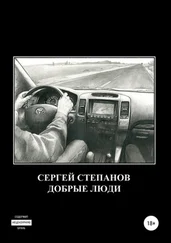Михаил Иванович написал докладную в Михайловское управление лесного хозяйства с просьбой премировать работников Прихопёрского лесхоза по итогам 1929 и 1930 годов: директору — пятьсот рублей, замдиректора — четыреста пятьдесят рублей, главбуху — четыреста пятьдесят рублей, кассиру, лесникам, мастерам — по четыреста рублей.
В Михайловском управлении лесного хозяйства покрутили бумагу в руках, погрызли конец карандаша, почесали за ухом, мол, «крупная сумма премии». Отправили докладную в Москву без изменений. Москва ответила: «Премировать по итогам 1929–1930 годов за счёт средств Прихопёрского лесхоза».
В 1930 году колхозники колхоза имени Будённого зарабатывали и получали по пуду зерна в месяц на каждого члена семьи, в том числе и на неработающих, кроме того, ежемесячно получали денежную зарплату. Многие говорили: «Так жить можно».
Колхоз имени Будённого перед весенним севом выдал всем зимовщикам скота и заготовщикам леса зарплату. По решению общего собрания колхозников, за зимовку крупной рогатой головы — восемь рублей в месяц.
Лошади — десять рублей в месяц, овцы — три рубля, телят — три рубля.
Заготовщикам леса — по три рубля в день.
Весь скот, лошадей и овец собрали до единой головы согласно сохранным распискам.
За зиму колхоз приобрёл два двадцатилитровых электрических сепаратора и два десятилитровых, ручных, кое-какую посуду. Пустовал Николай Беседин в колхоз не пошёл. Он уехал в Царицын и поступил там в артель пустовалов. Дом свой на северном краю станицы подарил колхозу, а колхоз организовал в нём молочный пункт.
Будённый прислал две электростанции (одна стала действующей, другая осталась в запасе), установки для бурения водяных скважин, пять тысяч метров труб, две башни, четыре глубинных насоса. В конце марта приехали специалисты.
Статья Сталина «Головокружения от успехов» на колхоз имени Будённого никак не повлияла. Из колхоза имени Будённого никто и не собирался выходить.
Прихопёрские и Придубровские хутора копировали действия колхоза имени Будённого. Они платили зарплату колхозникам, а деньги выручали за мясо, которое продавали в Вешенской. Там же узнавали, что в самой Вешенской и в хуторах вокруг неё много скота пало во время зимовки. Оставшийся скот из зимовки вышел захудалым. С весенним севом не справились. Часть колхозников вышла из колхоза, это разрешалось по статье Сталина «Головокружение от успехов». Но была совершенно секретная директива ЦК Партии, в которой говорилось: «Выходцам из колхоза возвращать участки земли, а семена и тягловую силу не возвращать». Люди, помыкавшись, снова шли в колхоз.
Весенний сев в колхозе имени Будённого прошёл вовремя и качественно. Только овёс был посеян, по настоянию стариков, вручную. Старики говорили: «Сей овёс в грязь, будешь — князь». Овса было посеяно двести гектаров. Остальное — две с половиной тысячи гектаров засеяли в лучшие сроки. Работало шестьдесят плугов, которые давали по три гектара на плуг, а всего по сто восемьдесят гектаров в день. Следом за плугами шли бороны, следом за боронами шли ралки [49] Ралка — борона с большими зубьями. ( Прим. ред .)
, а потом конные сеялки. За каждой сеялкой шёл полукруг цепи, который выравнивал пашню после сеялки.
Агроном огорчался:
— Нашей земле не хватает катков. Если бы сейчас наши посевы вслед за сеялками прикатать тяжёлыми катками, то, при одном дожде в мае и одном дожде в июне, получили бы ломовой урожай.
Весной посеяли: овёс, ячмень, яровую пшеницу, просо, подсолнух. Среди проса и подсолнуха оставляли по гектару земли незасеянной. Потом приходили женщины с мотыгами и сажали арбузы и дыни, а по краям тыквы. После окончания весеннего сева, участники сева получили оплачиваемый недельный отпуск и стали пахать пары и зябь.
Работать на сепараторном пункте взялась добровольно Акулина Михайловна Березнёва-Тибирькова. Она в средине марта пришла в контору колхоза, дождалась, пока все разошлись и председатель колхоза Сенчуков остался один, вошла к нему и сразу за дело:
— Я Акулина Михайловна Березнёва знаю, что вы купили сепараторы, а человека, который бы управляться с молоком — нет. Я добровольно берусь за эту работу, я её знаю, работала на молочном заводе в Камышине. Потом меня постигла беда; на сплаве муж утонул. Мать умерла в тифу в 1919 году. В начале 1921 года завод закрылся. Люди поели коров, начался голодомор. Мать ещё при жизни говорила: «Если будет ещё хуже, то иди в деревню, да в такую, что стоит на речке. Там у тебя будет огород, а нужда заставит тебя научиться ловить рыбу, собирать ракушки и всякие корни. Я и пошла. Прибилась к Кумылге, а там — голод. Меня направили в вашу станицу. Тут я познакомилась с Константином Петровичем Тибирьковым…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу