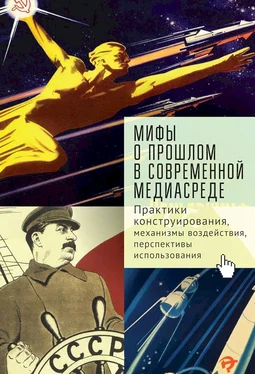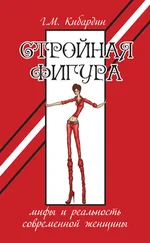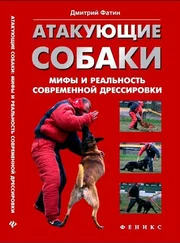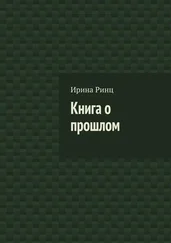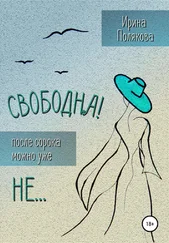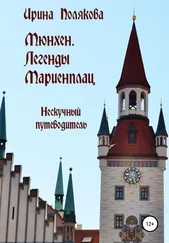Следует заключить, что активное развитие trauma studies в конце 1980-х — начале 1990-х гг. прошлого века хронологически совпадает с исследованием посткоммунистических режимов и трансформации их общественного сознания. В этой связи исследование восприятия событий, связанных с распадом СССР как культурной травмы открывает новое направление в теоретическом изучении культурных травм, вследствие противоречивости современной российской действительности, где имеет место диалектика реального и воображаемого опыта утраты. Тем не менее, разговор о «воображаемом», «сконструированном» характере культурной травмы следует интерпретировать в русле умеренного, а не радикального конструктивизма. Это связано с активной жизнью и деятельностью поколений, продолжающих воспроизводить негативные образы памяти о событиях начала 1990 — х гг., а также с активизацией в современной России государственной политики памяти. Вместе с тем, ностальгия по советскому в политической и культурной жизни современной России оказывается способом воспроизводства именно травматического опыта, травматических структур памяти. Интересные перспективы имеет в этой связи анализ культурной травмы в контексте особенностей современной мифологии. Следует говорить о разной степени присутствия и влияния мифологических элементов в оценках травматического события. Также следует говорить о двойственной функции мифа, который может оказываться как средством преодоления травм, так и оказываться средством их усиления. Этапы конструирования культурной травмы, связанной с событиями распада СССР во многом отражает особенности политических процессов, происходивших в России в 1990-е — 2000-е гг. Анализ российской медийной среды позволяет говорить, как минимум, о трех ключевых этапах восприятия распада СССР: 1990-е гг. — начало 2000-х гг.; начало 2000х гг. — 2010-е гг.; 2010-е гг. — по настоящее время. Именно в последний период наблюдается резкое возрастание числа крупных и малых телепроектов, посвященных теме распада СССР. Проведенный нами контент — анализ наиболее крупных телепроектов показал трансформацию нарратива от фактографического описания 90-х (проект Леонида Парфенова) к описанию, насыщенному интерпретативным контекстом. При этом, наблюдается противоречивая ситуация, поскольку часть проектов (проекты Николая Сванидзе, Алексея Пивоварова) реализуют критическую стратегию интерпретации, в то время как другие проекты (Дмитрия Киселева и Дмитрия Чернышева) демонстрируют травматическую интерпретацию событий распада СССР. Анализ показал, что в последние годы крупные телевизионные проекты, посвященные распаду СССР, сменились большим количеством небольших телевизионных шоу, посвященных обсуждению альтернативности распада СССР и определению виновников данного исторического события. Однако, характер и особенности интерпретации событий связанных связанных с распадом СССР в данных проектах способствует скорее воспроизводству травматического исторического опыта, чем его преодолению и рационализации.
4.3. Мифология образов Сталина в нарративах российского кинематографа и телевизионной публицистики
В конце июня 2017 года в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина была установлена мемориальная доска, посвященная выступлению в стенах этого учебного заведения советского вождя Иосифа Сталина. Событие сопровождалось скандалом, имело большой общественный резонанс и в очередной раз раскололо российское общество. Вместе с тем, неутихающие споры вокруг личности И. В. Сталина и его эпохи подчеркивают, что сталинская эпоха, равно как и мифы о ней, продолжают оставаться важной частью настоящего. Более того, социологические опросы последних лет явно свидетельствуют о росте популярности советского вождя [305] См.: Римский В. Л. Мифы о Сталине и культе личности в сознании российских граждан и элиты // Общественные науки и современность. 2011. № 1. С. 97–105.
, использовании его образа в политической борьбе [306] См.: Линченко А. А., Иванов А. Г. «Живите тыщу лет, товарищ Сталин…»: Трансформация мифологии образов И. В. Сталина в современной российской исторической памяти // Диалог со временем. 2017. Вып. 59. С. 116–135.
, медиасреде [307] См.: Линченко А. А. Мифология образов Иосифа Сталина в нарративах современного российского кино и телевизионной публицистики // Философия и методология истории. Сборник статей VII Всероссийской конференции. Коломна: ГСГИ, 2016. С. 152–162.
и даже религиозной жизни [308] См.: Прилуцкий А. М. «Сталинский миф» в религиозном и парарелигиозном дискурсах // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 2. С. 87–95.
. Было бы однозначным в этой связи занимать как явно апологетическую, так и явно критическую позицию по отношению к И. В. Сталину и его эпохе. Представляется, что и первая, и вторая точки зрения испытывают на себе определенное влияние мифов о Сталине, которые могут выступать как в форме апологетических мифов, так и в различных формах контр — мифов. В чем причина того, что мифологизированные образы Иосифа Сталина возвращаются в российскую культурную память в 2000 — е годы? Насколько миф о Сталине является повторением традиционных мифов о герое в русской культурной памяти? Каковы особенности мифологизации образов Иосифа Сталина в нарративах современной российской культурной памяти? Ответить на эти вопросы мы попытаемся на основе предпринятого нами контент — анализа нарративов о прошлом, транслируемых в рамках российского кинематографа, телевизионной публицистики. В этой связи в нашем исследовании мы будем руководствоваться теоретической моделью мифа, представленной в работах Р. Барта, Ю. М. Лотмана, а также Д. Холлиса, указывавших на коммуникативность современного социального мифа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу