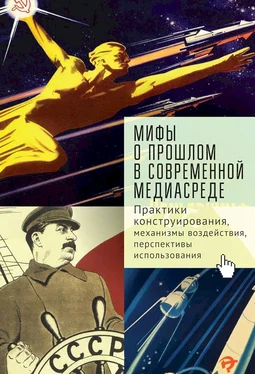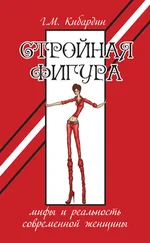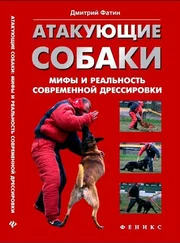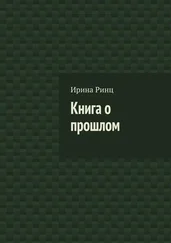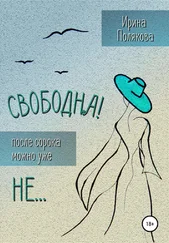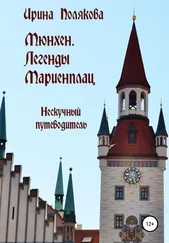Следует заключить, что проблема демифологизации медийных мифов о прошлом является одной из сложнейших, так как предполагает трансформацию эпистемологических критериев в критерии социокультурные. Это, в свою очередь, позволяет не столько устранять элементы мифологического из исторической культуры («преодоление» мифа), а скорее выявлять их подлинное место в ней («нейтрализация» мифа), открыть возможности их включения в рациональный контекст исторической культуры, сделать их частью общественной рациональной рефлексии и деятельности (познавательной, ценностной, практической). Демифологизация оказывается движением от научной критики мифа к экспертизе исторической культуры в целом, где роль экспертных культур начинают играть не только представители научного сообщества, но и литературы, культурной общественности, а также самой медиасреды.
Глава 4. Медиатизация мифов о советском прошлом: ренессанс и культурная травма
4.1. Проблемы утверждения политического мифа: советское прошлое как символический ресурс конструирования имперского мифа в современной России
В современной России, с одной стороны, продолжается поиск объединяющей идеи в условиях идеологического вакуума, с другой стороны, активизируются мифотворческие и мифологизационные процессы, фактически напрямую оказывающие воздействие на массовое сознание граждан. В такой ситуации важно исследовать все возможные векторы развития идей и практик в российском политическом пространстве, в том числе и использующих историческое наследие.
В последнее время, когда речь идет о государстве и об идеологии ключевое значение приобретают процессы мифотворчества, которые в политической сфере зачастую находят отражение в определенных идеологических построениях. Можно сказать, что фактически мифотворчество институциализируется через конкретные идеологии. Более того, каждое государство через господствующую в нем идеологию — формальную или неформальную — использует какой — либо миф или комплекс мифов.
Имперский миф можно рассматривать как своеобразную квинтэссенцию воплощения социального мифа в идеологии, квинтэссенцию эксплуатации идеологией социального мифа. Он возникает на определенной стадии развития государства, когда формируется общественный запрос на «имперскую мифологию». Однако назвать имперский миф просто политическим мифом, на наш взгляд, означает исказить его смысл, сузить его значение, подменить историю происхождения. Политическая мифология традиционно произрастает из интересов, она вторична и разрабатывается группами идеологического воздействия. Что касается имперской мифологии, то здесь этого недостаточно: необходимо именно совпадение интересов, с одной стороны, политической элиты, и, с другой стороны, населения. То есть задаваемая элитой «имперская мифологическая картина мира» должна практически совпадать с общественными ожиданиями. Процесс формирования данной картины мира происходит примерно таким способом, который описан у К. Манхейма, когда «интеллигенция» задает обществу интерпретацию мира. Так, слой интеллектуалов, интеллигенции, по мнению К. Манхейма, становится со временем организованным в виде касты и монополизирует право проповедовать, учить и создавать свою интерпретацию мира. Это обусловлено двумя социальными факторами: «Чем в большей степени он становится выразителем некоего строго организованного коллектива (например, церкви), тем сильнее он склоняется в своем мышлении к „схоластике“. Задача этого слоя — придать догматически связывающую силу тем способам мышления, которые прежде были значимы только для определенной секты, и тем самым санкционировать онтологию и гносеологию, имплицитно содержащиеся в этих формах мышления. Это преобразование вызвано необходимостью являть собой единый фронт в глазах посторонних. Второй характерной чертой этого монополистического типа мышления является его относительная отдаленность от открытых конфликтов повседневной жизни; следовательно, оно и в этом смысле „схоластично“, то есть академично и безжизненно. Этот тип мышления складывается не в непосредственной борьбе за решение жизненных проблем, не как результат испытаний и заблуждений или попыток господствовать над природой или обществом — он прежде всего удовлетворяет собственной потребности в систематизации, в силу которой все факты религиозной сферы и других сфер жизни соотносятся с традиционными данными и неконтролируемыми предпосылками» [222] Манхейм К. Идеология и утопия; пер. с нем. и англ. // Диагноз нашего времени. — М.: Юрист, 1994. С. 14–15.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу