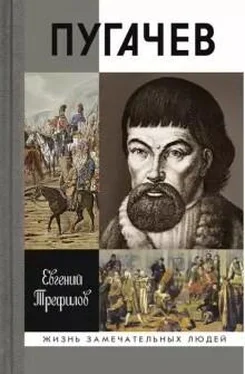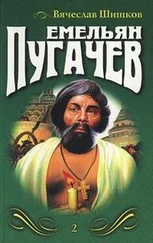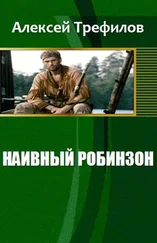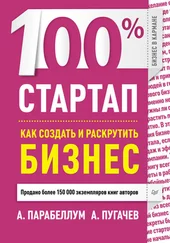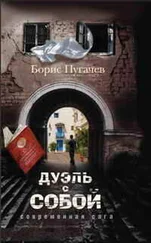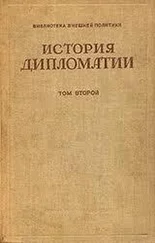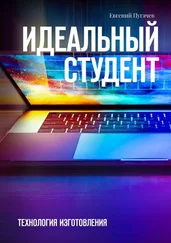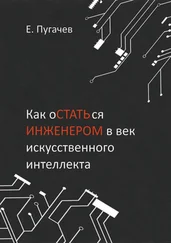Тем не менее остается вопиющее противоречие между декларациями и реальной политикой императрицы: с одной стороны, она заявляла о негативном отношении к крепостному праву, с другой — так и не улучшила положение помещичьих крестьян. Возможно, Екатерина не могла сделать этого, поскольку, по оценке современного историка А. Б. Каменского, «реальная власть российского монарха во второй половине XVIII в. действительно была далеко не абсолютной и контролировалась определенными политическими и социальными силами, действовавшими в интересах дворянства» [294] Каменский А. Б. Еще раз о Екатерине II и крепостничестве (из опыта изживания марксистской историографии) // Екатерина Великая: эпоха российской истории: Международная конференция. Санкт-Петербург, 26–29 августа 1996 г.: Тезисы докладов // http://www.ekaterina2.com/konf/konf_048.php
. Может быть, именно этим и объясняется появление в годы, предшествующие пугачевщине, указов, подтверждавших и даже укреплявших власть помещика над его крепостными. Среди прочего крестьянам запрещалось (сенатским указом от 22 августа 1767 года) подавать челобитные на своих господ, «а наипаче ее величеству в собственные руки», а их составителям и подателям грозили наказание кнутом и ссылка в Нерчинск на вечные каторжные работы [295] См.: ПСЗРИ. Т. 18. № 12966. С. 335, 336. О законодательстве по крестьянскому вопросу см.: Белявский М. Т. Указ. соч. С. 38–54.
. Таким образом, и без того минимальная возможность пожаловаться на самоуправство барина исчезла вовсе. Несомненно, правы историки, утверждающие, что этот и другие екатерининские указы лишь возобновили давние нормы, которые восходили еще к Соборному уложению 1649 года [296] См.: Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. С. 402; Мадариага И. де. Указ. соч. С. 218.
. Однако мы хорошо знаем, что прежде Екатерина, невзирая на Уложение, собственноручно принимала крестьянские челобитные. И если бы не подобная практика, то злодеяния знаменитой барыни-садистки Салтычихи, возможно, так никогда и не вышли бы наружу [297] Подробнее о деле Салтычихи см.: Студенкин Г. И. Салтычиха. 1730–1801 гг. // PC. 1874. Т. 10. С. 497–548; Манькова Л. Кровавая барыня // Родина. 2002. № 2. С. 44–51; Экштут С. А. Роман душегубицы // Там же. 2002. № 3. С. 52–55.
.
Поскольку легальные способы борьбы с барским произволом были минимальными, крестьяне противостояли ему сами, как могли. Помимо бегства на окраины государства и за его границы, мужики частенько бунтовали против своих помещиков и расправлялись с ними. Поэтому призывы самозваного Петра Федоровича и его атаманов получили, что называется, широкий отклик у помещичьих крестьян. «Всему свету известно, — говорилось в одном из посланий пугачевского атамана И. Н. Грязнова, — сколько во изнурение приведена Россия, от кого ж — вам самим то небезызвестно. Дворянство обладает крестьянеми, но, хотя в законе Божием и написано, чтоб оне крестьян так же содержали, как и детей, но оне не только за работника, но хуже почитали полян (собак. — Е. Т.) своих, с которыми гоняли за зайцами». И если Грязнов только констатирует дворянские злодеяния, то «Петр Федорович» в указе от 31 июля 1774 года откровенно призывает к расправе со злодеями: «…повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах — оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами» [298] Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. С. 48, 271.
.
Помимо барских, участие в пугачевщине принимали и другие категории крестьян. Так, уже в октябре—ноябре 1773 года к восстанию в массовом порядке начали присоединяться заводские крестьяне. Речь идет главным образом об уральских заводах, где были постоянные и временные работники. Первую группу составляли мастеровые (мастера, подмастерья и ученики) и работные люди (выполняли подсобные работы) из собственных крепостных заводчика или посессионных крестьян. Посессионные юридически не были собственностью заводчика, а принадлежали самому заводу, однако фактически зачастую находились в полной власти владельца предприятия. Если мастеровые сравнительно хорошо обеспечивались, получали заработную плату, то работные люди находились в незавидном положении. Что же касается временных работников, то большая их часть состояла из приписных государственных крестьян (они еще назывались «партийными», поскольку на заводы их посылали посменно, партиями, для отработки подушного и оброчного окладов). Сюда же следует отнести вольнонаемных из податного населения [299] См.: Андрущенко А. И. Крестьянская война 1773–1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. С. 235, 236.
.
Читать дальше