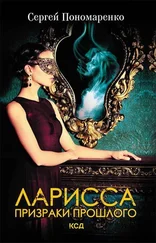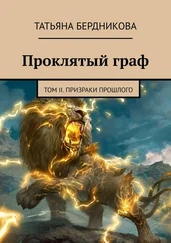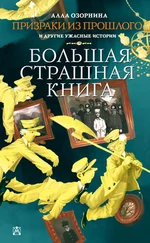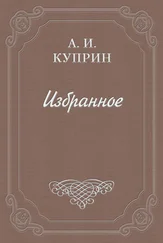* * *
В конечном итоге дело Эберлинга дошло до Высшего суда Западной Германии по уголовным делам, Bundesgerichtshof. Адвокат Эберлинга после признания виновным своего клиента быстро подал апелляцию с рядом обоснований. Кремендаль утверждал, что Эберлинг не мог нарушить закон о запрете народного целительства, поскольку его методы «выходят за рамки стандартов любой медицинской науки». Закон о народных целителях не предполагалось применять в отношении Heilapostel , или «целителей чистой верой», которые, как считалось, противодействовали «дурным силам или, как бы ни назывались эти явления, посредством молитвы, Besprechen , и других подобных процедур». Таким образом, осуждение за мошенничество также было юридически необоснованным, поскольку это потребовало бы от суда доказать, что «обещание исцеления» среди тех, кто приходил к Эберлингу за лечением, как-либо отличалось от ожиданий, обычно имеющихся у людей, когда они ждут «магической помощи того типа», которую оказывал его клиент. По определению Уголовного права Германии, мошенничество совершается в случае, когда «чьей-то собственности причиняется ущерб посредством использования лжи, искажения или сокрытия истинных фактов, что, таким образом, вызывает или усиливает ошибку». Суд Шлезвиг-Гольштейна заявил, что, поскольку Эберлинг уже обвинялся в мошенничестве в 1936 г., он должен был знать, что его деятельность относится к этой категории. В то же время сам суд процитировал утверждение осматривавших Эберлинга докторов, что он «фанатично» верит в свои методы [687] LSH, Abt. 352, Itzehoe, Nr. 413, pp. 279, 281–82, 284–85, Kremendahl, Revision.
.
Осенью 1955 г. Высший суд заслушал апелляцию Эберлинга и отменил приговор. Суд согласился, что в ходе разбирательства были допущены процедурные ошибки. Мошенничество не было доказано. Эберлинг должен был бы знать, что «его методы бесполезны», хотя адвокаты федеральной земли предполагали, что верно прямо противоположное. Высший суд, однако, счел Эберлинга виновным в нарушении закона о народном целительстве [688] BAK, B 142/3930/66–71. «Im Namen des Volkes», November 1, 1955.
. Его дело вернулось в районный суд в Шлезвиг-Гольштейне в апреле 1956 г. Эберлинг был признан виновным в нарушении запрета на деятельность народных целителей и в одном случае распространения порочащих сведений и приговорен к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в 400 марок [689] LSH, Abt. 351, Nr. 1130, p. 41. Oberstaatsanwalt to Herrn Justizminister des Landes Schleswig-Holstein, April 28, 1956.
. Хотя Эберлинг «повидал мир», заявил суд, он «застрял в средневековых верованиях» своего родного края [690] LSH, Abt. 352, Itzehoe, Nr. 413, p. 373, «Im Namen des Volkes», May 23, 1956.
. Этот вердикт и осуждение почти не повредили его репутации на местном уровне. В действительности он теперь стал кем-то вроде «маленького Грёнинга». Машины и целые автобусы, «часто с датскими номерами», останавливались около его дома, привозя людей, желавших обратиться к опыту «ведьмогонителя» [691] Baumhauer, Johann Kruse , 222.
.
И суд, и психиатров, опрашивавших Эберлинга, озадачил тот факт, что он не произносил (или заявлял, что не произносит) слово «ведьма» [692] LSH, Abt. 352, Itzehoe, Nr. 418, p. 76, Gutachte, March 21, 1955.
. Однако, как знали Эберлинг и его адвокат, нагруженный смыслами язык нельзя использовать просто так. При национал-социализме самого обычного слова «нужного» человека, предполагающего, что чей-то сосед слушал не ту радиопрограмму или неудачно пошутил в баре накануне вечером, могло быть достаточно для высылки этого соседа или чего похуже. В суде в 1956 г. Эберлинг сказал, что отрицал веру в ведьм, когда его судили в 1936-м, не потому, что надеялся на снисхождение, а из страха, что его необычные взгляды могли быть восприняты как признак психической болезни. Это легко бы привело, как в случае Пауля Д., к стерилизации. Окружной суд, вынесший обвинительный приговор Эберлингу в 1956 г., признал, что такая опасность была реальной. Суд счел рассуждения Эберлинга «разумными» [693] LSH, Abt. 35ъ2, Itzehoe, Nr. 413, p. 373, «Im Namen des Volkes», May 23, 1956.
.
Глава 9. Крестовый поход Крузе
Размышляя о растущем числе обвинений в колдовстве в 1950-е гг., доктора, судьи и пресса по большей части низводили их до проявления деревенской примитивности и отсутствия знаний. По высокомерному заявлению Der Spiegel в 1951 г., изоляция сельчан — в горах, на пустошах, в болотистых низинах — сделала их жертвами «аферистов» и «кровосмешения» [694] «Bis das Blut kommt», Der Spiegel 14, April 4, 1951, p. 10.
. Общественность согласилась: страх перед ведьмами представляет собой «великий закат культуры», как высказался один мужчина в письме властям Нижней Саксонии в 1955 г. [695] HH, Nds. 401, Acc. 112/83, Nr. 564, p. 8. An den Herrn Kulturminister in Niedersachsen, September 12, 1955.
Другие наблюдатели видели в этом страхе разве что живописный фольклорный реликт — безобидный, поскольку вневременный, «традиционный» и бытующий, по их убеждению, лишь в некоторых местах, не слишком им интересных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
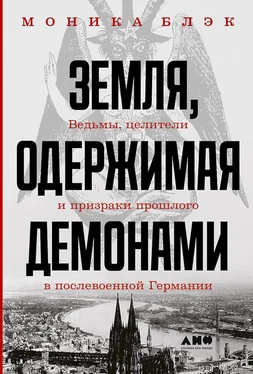
![Олеся Шалюкова - Призраки прошлого [СИ]](/books/35146/olesya-shalyukova-prizraki-proshlogo-si-thumb.webp)


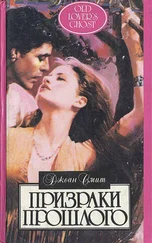

![Мария Стрелова - Призраки прошлого [litres]](/books/414265/mariya-strelova-prizraki-proshlogo-litres-thumb.webp)