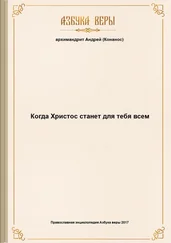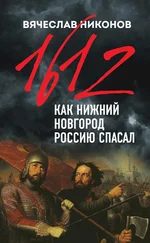Однако уровень боеготовности всех без исключения фронтовых частей день ото дня снижался. Разладилось снабжение армии, что следовало ожидать, учитывая бедственное состояние экономики и транспорта. Гурко жаловался: «В первые месяцы революции снабжение не просто ухудшилось, но даже совершенно прекратилось» [595] Гурко В. Война и революция в России. С. 364.
.
Вносили свой вклад новые демократические институты в армии. Лукомский, уехавший из Ставки в конце марта, чтобы возглавить 11-й армейский корпус со штабом в Везенберге, делился впечатлениями: «Я ежедневно получал донесения от начальников дивизий, рисовавших положение в самых мрачных красках, указывавших, что образовавшиеся в частях войск комитеты решительно во все вмешиваются; занятий части войск производить не хотели; дисциплинарную власть начальствующие лица применять не могли; комитеты стремились получить в свое распоряжение все экономические суммы частей войск… Вся выходящая в Петрограде пропагандная литература в виде всевозможных воззваний, листков и проч. уже на следующий день после выхода была в частях моего корпуса» [596] Лукомский А. С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. С. 337, 338.
.
Фронт охватила эпидемия братания, которую поддерживало и германское командование, и противники войны внутри страны. Сообщение с Рижского фронта: «По всему поведению немецких солдат было видно, что первые вести о русской революции в окопах противника были приняты восторженно, с горячими надеждами на близкий мир. С 5 марта утра на снегу уже запестрели на синей бумаге германские прокламации: «Солдаты. В Петрограде революция… Русский народ. Проснись. Отверзи очи. Вся беда от Англии и т. д. и т. д…» Немцы буквально зачарованы нашей революцией» [597] Биржевые ведомости. Вечерний выпуск. 1917. 29 марта. № 16159.
.
Нокс изучил этот вопрос и пришел в ужас: «Немцы направляли на встречу с русскими специально проинструктированных в их Генеральном штабе людей. Немецкие посетители, уходя с русских позиций, прихватывали с собой хлеб и фотографии русских укреплений. Русский крестьянин во время ответного визита рассказывал все, что он знал о своих войсках, и возвращался к себе счастливым и пьяным» [598] Нокс А. Вместе с русской армией. С. 539.
.
Войтинский замечал, что «по ту сторону фронта братания ни в малейшей степени не ломали «проклятой дисциплины казармы-тюрьмы». Ломка происходила лишь с одной стороны, разбивалась, дезорганизовывалась лишь та армия, которая должна была защищать российскую революцию. Солдат-окопник чувствовал, что заключить мир — дело нелегкое. А «братание» — это было просто, близко, доступно. Вышел за проволоку — и «братайся». Не будет больше стрельбы, не будет больше опасности быть убитым или раненым. Начальство мешает братаниям? Значит, оно-то и затягивает войну» [599] Войтинский В. С. 1917-й. Год побед и поражений. С. 101.
.
Разложению фронта способствовали и приходившие из тыловых гарнизонов пополнения. Капитан Левицкий, воевавший на Кавказском фронте, утверждал: «Они часто приходили без офицеров, разогнав или перебив их в пути. Это было не что иное, как разбойничьи банды, с явно грабительскими замашками, вкусившие уже прелесть лозунга «Грабь награбленное» [600] Левицкий В. А. На Кавказском фронте Первой мировой. Воспоминания капитана 155-го пехотного Кубанского полка. 1914–1917. М., 2014. С. 520.
.
В конце марта в Ставке появился министр земледелия Шингарев и заявил, что в связи с продовольственным кризисом с довольствия нужно снять не менее миллиона ртов. Уже 5 апреля Гучков подписал приказ об увольнении из внутренних округов солдат старше 40 лет на сельхозработы, а 10 апреля — вообще всех солдат старше 43 лет, в том числе — с фронта. Деникин считал, что тем самым началась фактическая демобилизация армии, что имело катастрофические последствия: «Никакая нормировка не могла уже остановить стихийного стремления уволенных вернуться домой, и массы их, хлынувшие на станции железных дорог, надолго расстроили транспорт. Некоторые полки, сформированные из запасных батальонов, потеряли большую часть своего состава; войсковые тылы — обозы, транспорты расстроились совершенно: солдаты, не дожидаясь смены, оставляли имущество и лошадей на произвол судьбы; имущество расхищалось, лошади гибли» [601] Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Кн. 1. Т. 1. С. 284–285.
.
Дезертиры составляли порой до 60 % выдвигавшихся на фронт маршевых частей. «Этот уход шел многими путями, — пояснял Головин. — Уходили под предлогом болезней, причем солдатские толпы штыками заставляли врачей эвакуационных пунктов выдавать им свидетельства об увольнении. Уходили под предлогом участия в солдатских комитетах, чисто фиктивных командировок. Наконец, просто дезертировали». До революции средняя заболеваемость в армии составляла 100 тысяч человек в месяц, после — без всяких эпидемий — 225 тысяч. Число солдат, явно или замаскированно дезертировавших, превышает с февраля по октябрь более двух миллионов военнослужащих. По существу говоря, это была своего рода фактическая демобилизация армии» [602] Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Т. 1. С. 69, 70, 71.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
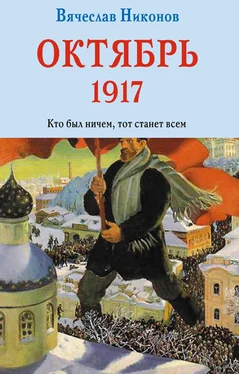



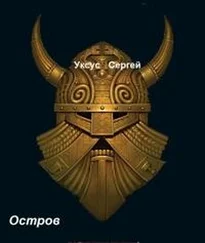

![Вячеслав Никонов - Ленин. Человек, который изменил всё [litres]](/books/399917/vyacheslav-nikonov-lenin-chelovek-kotoryj-izmenil-v-thumb.webp)