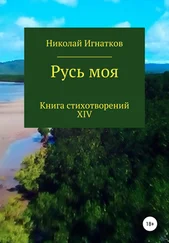Характер варяго-русских культурных связей определяется в общем следующим. Во-первых, обе стороны находились приблизительно на одной стадии общественного и культурного развития, свойственной высшей ступени варварства, разложению родового строя и становлению феодализма. Во-вторых, приходившие на Русь скандинавы, осваивая те пути на юг и на восток, которые открывались им на ее территории, встречались с новой для них богатой культурной средой, не знакомой им ни у себя на родине, ни в Прибалтике, которую они знали несколько раньше, чем Русь, ни в северо-западной области нашей страны (Новгород, Смоленск, Полоцк): волжский путь вел их на юго-восток, к волжским болгарам, и т. д., а через днепровский путь они попадали на такую стародавнюю культурную почву, как южная поднепровская Русь и Причерноморье, где в течение долгих веков скрещивалось так много разнообразных влияний и связей и развивалось в условиях взаимного воздействия так много культурных и этнических образований. В новое окружение скандинавский этнический элемент, как и всякий другой, конечно, вносил и нечто свое, но в еще большей мере изменялся сам под его воздействием. Говоря о южной Руси, следует отметить, что именно здесь приток варягов прекратился раньше и варяжский элемент свелся на нет быстрее, чем, например, в Новгородской земле. Как бы ни были фрагментарны и недостаточны сведения северных саг о Древней Руси, не случайным пробелом является то, что Киев, этот блестящий центр культурной и политической жизни, отразился в них так бледно и так скудно. Не случайно и то, что гордость древнерусской литературы, «Слово о полку Игореве», с любовью вспоминающее героическую старину, ничего не говорит о варягах; в представлении автора «Слова» они, очевидно, давным-давно слились с остальной княжеской дружиной, и для того, чтобы поминать их особо, не было никакой причины. Если бы у южной Руси было в это время оживленное общение со скандинавскими странами, то автор «Слова», вероятно, не преминул бы назвать, скажем, свеев, т. е. шведов, среди народов, которые «поют славу Святославлю» по поводу победы этого князя над Кобяком, или, наоборот, отметить какое-нибудь иное отношение их к южнорусским событиям.
Анализируя имеющийся у нас материал, приходится проверять не только предполагаемое скандинавское происхождение целого ряда летописных сказаний, но и обратно — русское происхождение некоторых преданий, дошедших до нас в северных сагах. Как мы уже видели, об этом неоднократно писали и наши, и зарубежные ученые, и во многих случаях это предположение оказывается вполне правдоподобным. Так, например, географическая локализация некоторых преданий, сходных с русскими, у Саксона Грамматика указывает, по-видимому, на бассейн Западной Двины, на Полоцкую землю. Именно эту русскую территорию, связанную с западнодвинским речным путем, можно предполагать, если пытаться уточнить весьма неопределенные географические указания Саксона. Полоцк был хорошо известен скандинавам; знает его и Саксон. Очень возможно, что именно отсюда тем или иным способом дошли до этого автора те отголоски русских преданий, которые он использовал в своем труде.
Целью настоящего исследования не является, разумеется, замена одного направления литературных заимствований другим, противоположным ему. Устанавливая в целом ряде случаев влияние русских сказаний на скандинавские, мы опровергаем одно из тех несостоятельных положений старой норманской школы, которые можно считать благополучно изжитыми у нас, но которые еще доживают свой век в работах многих западноевропейских ученых. За последние 20 лет некоторыми западноевропейскими исследователями выдвинута идея о возможности культурного влияния не только скандинавов на восточных славян (на чем, как известно, стоит вся старая школа норманистов), но и влияния обратного, с востока на запад и север. Учитывая, со своей стороны, исторические связи и предков восточных славян с древними культурами Причерноморья и Востока, мы не можем не признать, что эта новая концепция, далеко не приемлемая для нас целиком, открывает все-таки более широкие перспективы для изучения литературных сюжетов и мотивов, чем старое норманистское направление, и по сравнению с ним, конечно, представляет собою какой-то шаг вперед. Но для нас более существенной является другая сторона этой проблемы. Та общность сказаний и легенд, которую мы наблюдаем у восточных славян в начальный период нашей истории и у скандинавов эпохи викингов, объясняется не только взаимным культурным общением, она в неменьшей мере обусловлена сходным стадиальным развитием. Рассмотренные здесь общие сюжеты имеют, как мы уже видели, множество параллелей и у разных других народов. Как только мы начинаем подбирать этот сравнительный материал, раздаются такие разнообразные « Stimmen der Völker in Liedern », что попытка свести все варианты той или иной из рассматриваемых нами тем к одному этническому источнику оказывается совершенно безнадежной.
Читать дальше
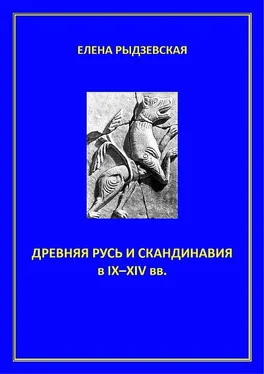




![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)