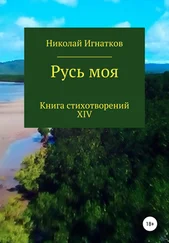Итак, Барди, один из сравнительно немногих исландцев, бывших на Руси, на родину не вернулся. Прямых указаний на то, чтобы его сопровождали на Русь какие-нибудь земляки, впоследствии вернувшиеся в Исландию, у нас нет, но эта возможность, конечно, не исключена. Если у него действительно была своя дружина, то в составе ее могли быть и норвежцы, а Норвегия имела постоянное общение с Исландией. Следовательно, мы можем предполагать соединение с именем Барди сюжета русского предания, с которым его соратники и приятели могли познакомиться на Руси. Будучи занесено через них в Исландию, оно переоформилось там согласно местным условиям и событиям…
XII
Вопрос о варяжских сказаниях как об одном из устных источников нашей древнейшей летописи стоит в теснейшей связи с норманской проблемой вообще. В этой области он является одним из научно-исследовательских участков, а выводы, которые можно сделать относительно имеющегося у нас материала, должны послужить для разработки и решения этой основной проблемы.
Мы здесь имеем дело не только с летописными и разными иными легендами, но и с теми, которые, начиная с XVIII в., создавались последователями норманской школы— историками, а позднее и археологами. Таков старый тезис о норманском завоевании Руси в том смысле, в каком принимают его последователи этой школы, и об основании норманнами русского государства, о их обширных колониях на территории нашей страны, которые, особенно за последнее время, расцвели на бумаге под пером зарубежных ученых, занимающихся их насаждением. Наша современная научная литература дала ряд работ, в которых мы находим критическую оценку указанных мною «легенд» и установившуюся концепцию варяжского вопроса. Во всех почти работах, так или иначе касающихся древнескандинавского материала, мы встречаем фактические ошибки всякого рода, некритический подход к соответствующим первоисточникам и т. д., причем, если дело касается скандинавско-русских отношений, ошибки эти чаще направлены в сторону преувеличений, подобных тем, какими отличался старый норманизм (очевидно, совершенно вопреки намерениям самих авторов). Но общая постановка норманской проблемы, выработавшаяся у наших историков в связи с их исследованиями в области ранней русской истории, является совершенно правильной, последовательной и убедительной; остается лишь вести дальнейшую работу в этом же направлении [573].
Старый норманизм, односторонний и ограниченный, неизбежно должен был в конце концов исчерпать себя, запутавшись в лабиринте безысходной и безнадежной варяго-русской полемики. Выращенные на его почве историографические «легенды» можно считать окончательно и бесповоротно разрушенными. Одной из них является занесение варягами на Русь целого ряда сказаний, вошедших в нашу летопись, а если и не занесение, то возникновение этих сказаний в варяжской же среде на Руси.
Но есть ли у нас действительно основание рассматривать варяжское предание на Руси как нечто особое, резко характерное по своим чертам, по своей тематике и идеологии и как один из возможных устных источников нашей летописи? Как мы видим из попытки анализа этого литературного материала, предпринятой в данной работе, в громадном большинстве случаев оказывается, что собственно варяжский элемент очень трудно уловить и определить, как таковой, а следовательно, и отделить от местного. И это не зависит от преднамеренного замалчивания первого со стороны летописца. Наоборот, в изложении событий IX–X вв. летописец скорее непомерно выдвигает варягов — взять хотя бы основание ими русского государства и отождествление их с Русью подхваченное норманистами и напустившее благодаря им такой туман, что понадобилось около 200 лет, чтобы его наконец развеять. Отношение летописцев к варягам — вопрос довольно сложный, которого я здесь не буду касаться в его полном объеме. Во всяком случае, перед нами два течения: с одной стороны, все то, что дало повод Шахматову отозваться о летописце как о первом русском норманисте, а с другой — тенденция выдвигать в области отношений с соседними странами на первый план русско-византийские связи и затушевывать то, что связывало Древнюю Русь с Западной Европой, включая сюда и скандинавский Север, — много ли, например, мы знаем из летописи о многочисленных иностранных (в том числе и скандинавских) браках русских князей! Но результаты, к которым приводит настоящее исследование, не указывают на то, что летопись преднамеренно замалчивала какие-то данные, говорящие в пользу варяжского происхождения рассматриваемых здесь преданий. Оно приписывалось этим преданиям теми учеными, которые хотели установить его во что бы то ни стало, не считаясь с конкретными историческими условиями, в которых слагалось и распространялось устное предание до его письменного оформления в летописи, т. е. не считаясь с условиями развития древнерусского общества и с теми разнообразными культурными связями восточных славян с Византией и с Востоком, начала которым варяги, во всяком случае, не положили. В. А. Пархоменко справедливо указывал на то богатое окружение, какое было у восточных славян, — Византия, хазары, болгары, угры, печенеги и т. д. как на основание для скептического отношения к гипотезе норманского завоевания и господства в Древней Руси [574]. Это относится к любой области древнерусской культуры, включай и литературу.
Читать дальше
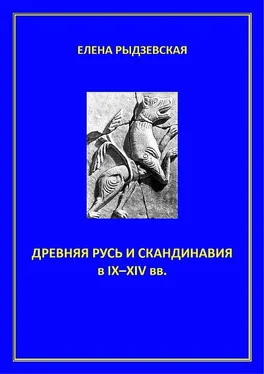




![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)