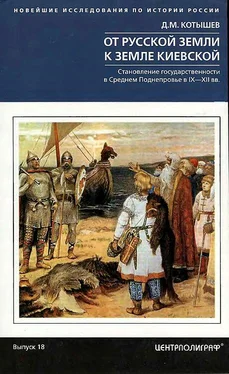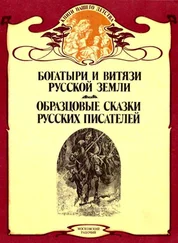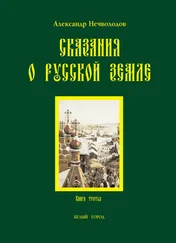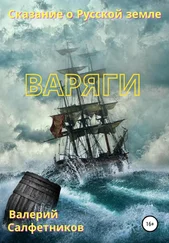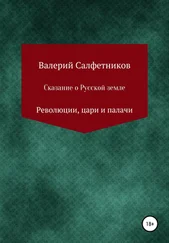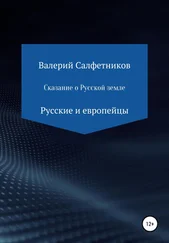Можно подытожить наблюдения относительно развития Вышгорода к началу XII в. В отличие от Белгорода, который своим ростом и политическим значением был обязан в первую очередь появлению там княжеского стола, не менее стремительный подъем Вышгорода был связан с борисо-глебским культом и превращением города в один из религиозных центров Русской земли. Понимание этого факта красноречиво выразил автор «Сказания»: «Блаженъ поистине и высок паче всехъ градъ руськыхъ и вышний градъ, имый в себе таковое сокровище. Ему же не течень ни весь Миръ, поистине Вышгородъ наречеся, выше и превыше городъ всехъ, второй Солунь яви ся в Руской земле» [793].
На этом фоне даже появление княжеского стола при Изяславе Ярославиче было, скорее всего, менее значимым фактом. В пользу такого утверждения говорит и сама судьба вышгородского княжения вплоть до 1130–1140-х гг. [794]А появление в городе сакрального центра в виде Борисоглебского собора укрепило связь вышгородской общины с династией Ольговичей. Эта устойчивая связь будет прослеживаться и далее, на протяжении середины — второй половины XII в., формируя определенный вектор развития города.
Прямой противоположностью Вышгороду становится Белгород. В предыдущих главах удалось выяснить, что, возникнув как опорный пункт поднепровской «руси» во второй половине X в., уже в эпоху Владимира и Ярослава Белгород становится одним из ключевых узлов оборонительной линии в Среднем Поднепровье и «воротами» Киева на волынском направлении.
Уже в XI в. Белгород становится значимым религиозным центром Среднего Поднепровья: в нем возникает епископская кафедра. Точной даты ее появления раннее летописание не знает, а дата, приводимая Никоновской летописью, — 992 г. [795]— вызывает обоснованные сомнения.
Первое упоминание белгородского епископа Никиты содержится в тексте «Сказания о Борисе и Глебе», где описывается перенос мощей, который состоялся в 1072 г. [796]Епископ Лука принимал участие в освящении Михайловской церкви Выдубицкого монастыря (1088 г.) [797]и Успенской церкви Печерского монастыря (1089 г.) [798]. В церковном празднике 1115 г. в Вышгороде упоминается Никита Белгородский [799].
Вероятнее всего, к XI в. относятся и остатки небольшого деревянного храма, которые были выявлены при исследовании белгородского детинца в 1968–1969 гг. [800]
Обращает на себя внимание, что в известиях 1088–1089 гг. белгородский епископ упоминается сразу после митрополита. Это дало основание Е.Е. Голубинскому предположить, что белгородский епископ выполнял роль викария митрополита, помогая ему и замещая последнего во время его отсутствия [801]. Это предположение разделяет и Я.Н. Щапов. Опираясь на сведения Константинопольского перечня русских епархий, где первой перед Новгородской епископией названа «епископия великого Белгорода», Я.Н. Щапов полагает, что «…белгородский епископ исполнял особые функции — прежде всего, управлял епархией, на территории которой находился Киев с митрополичьей кафедрой» [802].
Особое положение белгородского епископа дает основания предполагать, что уже в XI в. город выделился среди прочих пригородов Русской земли. Белгородский тысяцкий Прокопий упоминается на страницах Пространной правды в 1113 г. [803]Это упоминание представляет определенный интерес для уяснения статуса Белгорода в указанное время.
Обращает на себя внимание характер представительства на берестовском совещании, связанном с принятием «Устава» Владимира Мономаха. Это тысяцкие, то есть в первую очередь представители городской общины. В документе перечислены Ратибор — киевский тысяцкий, Прокопий — белгородский, Станислав — переяславский. Некоторые затруднения возникают с определением Иванка Чудиновича, названного «Олговым мужем» [804].
Следовательно, на берестовском совещании были представлены основные города Русской земли: Киев, Чернигов и Переяславль. Упоминание в этом контексте Белгорода и его представителя говорит о высоком статусе киевского пригорода в масштабах всей Русской земли. Подтверждением особого положения Белгорода и его тесных связей с Киевом в это время может являться свинцовая вислая печать Владимира Мономаха. Печать была найдена во время раскопок Хвойки на белгородском детинце в 1909 г. в развалинах большой гражданской постройки [805].
Высокий статус Белгорода получил подтверждение в 1117 г., когда Мономах перевел туда из Новгорода своего старшего сына Мстислава. Ипат. сообщает: «Приведе Володимеръ Мьстислава из Новагорода и дасть ему отць Бѣлъгородъ» [806]. Иное толкование этому событию дают летописи новгородского происхождения: Новгородская I (НІЛ) и Новгородская IV — Софийская I (НІV—СІ). НІЛ говорит о том, что «иде Мстиславъ Кыеву на столь из Новагорода марта в 17» [807]. HIV–CІ излагают схожую трактовку событий, отличаясь некоторыми нюансами: «Приводе Володимеръ Мстислава, сына своего, из Новагорода в Киев» [808].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу