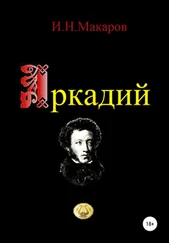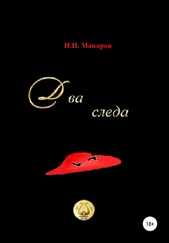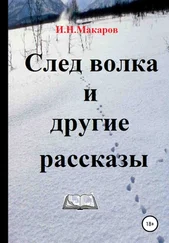По кручам взбираются отвесные, воспетые в песнях сараевские сады, а между ними спускаются вниз, подобно узким лавинам снега, многочисленные и столь своеобразные мусульманские белые кладбища. (Я не знаю, игра ли это ощущений или недоступная логика чувств, но мне всегда казалось, будто сады в самом деле поднимаются вверх, а кладбища спускаются). С приближением неторопливых сумерек белизна надгробных камней выступает еще сильнее. Многие из этих узких и продолговатых камней накренились, будто намереваясь улечься в могилу вместе со своим хозяином. Кое-где они посеяны так густо и беспорядочно и так наклонены, что напоминают колосья, смятые и поваленные ветром…
Внизу под нами утопает в фиолетовых сумерках старое Сараево, со строениями всех эпох и стилей, старыми и новыми церквами, синагогами и многочисленными мечетями, рядом с которыми растут тополя, стройные и высокие, как минареты. Город мятежей и войн, денег и голодных лет, чумных эпидемий и опустошительных пожаров, город умельцев, неизменно любивших жизнь, хотя и знавших ее с оборотной стороны. При последних отсветах дня город кажется исполненным древней мудрости; морщинами подвигов и векового опыта пролегли на нем линии улиц, извилистые и смелые — из турецких времен, прямые и крутые — из времен австрийских. Эти два типа городских улиц пока различаются вполне отчетливо, словно алфавиты двух различных рукописей и языков. Сгущающиеся сумерки все больше уравнивают их, заставляя слиться в неразборчивой повести всеобщей ночи, которая накрывает историю и легенды, деяния чужеземных завоевателей и местных мелких и крупных тиранов и олигархов, движения народных масс, долгие и запутанные счета и расчеты между теми, кто имеет, но не дает, и теми у кого нет ничего, кроме нужды.
Та «неразборчивая повесть всеобщей ночи» — воистину Варфоломеевской — вписала в историю Сараева свои самые кровавые письмена.
Подписание Дейтонского мира шокировало сербское Сараево: соглашение практически весь город отдавало в руки мусульман. В начале марта 1996 года начинается исход сербов из Сараева. Снежные вихри и 20-градусные морозы сопровождают тысячи грузовиков, которые вместе со скарбом увозят сербов в неизвестность. Вот как описывает публицист Лиляна Булатович гибель сербского Сараева при полном равнодушии официального Белграда:
Через два года после смерти Ани (дочери ген. Р. Младича. — И. М. ), после поминок, в квартире Младичей, за круглым столом в столовой, сидим мы впятером-вшестером. В Боснии продолжается горькое несчастье: исход сербов из родного Сараева, но средства массовой информации Сербии молчат об этом.
Сербы бежали от «дейтонской правды». Перед бегством сжигали свои дома, квартиры. Из могил выкапывали и уносили с собой кости своих сыновей, отцов, братьев…
— Несколько дней назад ехал на машине, — рассказывает генерал. — Мой водитель увидел знакомую старицу. Вышли из машины, смотрим, эта старица несет какой-то узел. Обнял ее, а у нее глаза полны слез: «А это сын, сын…». Спрашиваем ее, как ей сейчас? «Все у меня отняли, ничего нет! Но еще на тебя надеюсь, на тебя», — говорит старица, а сама дрожит. И добавляет, уже собираясь продолжить путь: «Ношу этого моего ратника на себе! Не хочу, чтобы его кости поганили эти нехристи-разбойники! А ты себя береги, «майка» (мама) на тебя только надеется!».
И ласково меня гладит свободной рукой, а в другой держит какой-то нейлоновый мешок. И вдруг я увидел, что в этом мешке «майка» носит останки своего сына, моего борца, воина…
И полные слез глаза «майки» так и остались в моей памяти навсегда.
А вот проникновенный поэтический плач Зорана Костича по исходу сараевских сербов («Зима в Сербском Сараеве, 1995/96»):
Все мы оставим — до кромки, до нитки.
Слышишь, жена, все бросаем пожитки:
все наше благо, все наше брашно,
с Богом, навек! Ты прощай, мати-пашня,
пожня-сестра, гора-отчина, с Богом,
братец-первач в бутыле под порогом,
люба-пшеница, зерно многооко,
все меня жжет и пытает жестоко:
дом мой родимый — дедовский, отчий,
все мои зори и сны, дни и ночи;
стены, простите, костер раздуваю —
вы меня грели, а я вас сжигаю;
жизнь, полыхай же, горите, стропила,
вас не чужая рука подпалила,
чтоб этой ночью раздвинулись дали,
чтоб на погосте все мертвые встали;
кости покойных уходят с живыми.
Дом, ты свечою над нами, над ними.
Бог нас простит, что на отчем погосте
сдвинуты камни, откопаны кости
наших покойных, и страшным исходом
в ночь со своим выступают народом
землю искать, где их прерванный отдых
не возмутят осквернителей орды.
Читать дальше
![Игорь Макаров Выстрелы в Сараево [Кто начал большую войну?] обложка книги](/books/427841/igor-makarov-vystrely-v-saraevo-kto-nachal-bolshu-cover.webp)