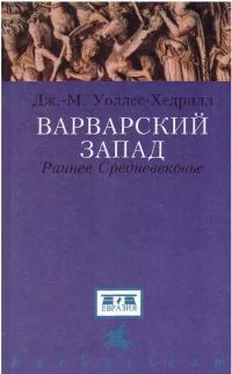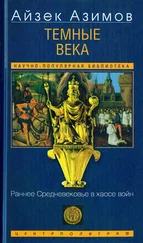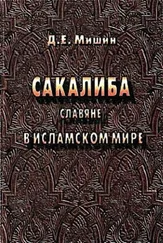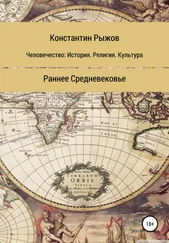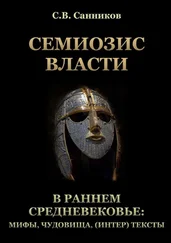Св. Августин умер в стенах своего города-епархии, когда снаружи его окружали вандалы. В недалеком будущем Гиппону было суждено пасть. Несмотря на то, что голос св. Августина прозвучал во всем христианском мире с силой, данной немногим, его наиболее насущной задачей всегда было руководство своей собственной общиной, Гиппонской Церковью. Размышляя об общности всех христианских душ в мире, он скорее радел о бесчисленных маленьких общинах, вроде его собственной, каждая из которых имела свои устои и сталкивалась со своими трудностями, нежели о чем-то более значительном. Неудивительно, что он страшился будущего и «не надеялся на князи». До конца он оставался приверженцем учения о том, что земные царства по самой своей природе обречены на самоуничтожение, поскольку их задачи преходящи. Град земной и Град Небесный всегда остаются разными, даже если по природе вещей люди оказываются гражданами и того, и другого. Истинная цель человека и единственное занятие, в котором он в состоянии обрести счастье, это служение Богу, однажды явившему себя в лице Христа. Это служение есть любовь. Другой любви, другого служения и другого счастья не существует. Классический взгляд на роль личности в истории имел с этим мало общего.
Когда историк взирает на Империю накануне последнего варварского натиска, сильнее всего его должно поразить ни что иное, как простой факт того, что многие люди вслух говорили о самих себе и о том, во что они верили. В этой грозовой атмосфере они были напуганы — не столько недостатками имперской администрации, изменяющимся обликом общества и варварской угрозой (на которые первыми обращает внимание современный наблюдатель), сколько зрелищем самих себя, оказавшихся в поле действия новой, христианской, философии истории. Античность осознавала себя в понятиях взаимодействия двух сил, человеческого характера и божественного вмешательства, которое понималось как рок или фортуна. Вместе они произвели на свет Вечный Рим, такой, чтобы о большем материальном благополучии нельзя было и подумать. Форма была задана. Человечеству оставалось от поколения к поколению наполнять ее содержанием. Сложность состояла в том, чтобы согласовать этот взгляд с тем, что фактически происходило в реальном мире. Как можно было увязать его с историей Поздней Империи — или, короче говоря, с фактом перемены? Христианство разбило эту форму, поместив на место Вечного Рима бессмертную душу каждого отдельного человека, мужчины или женщины, спасение которой является достойным делом жизни, и к которой судьбы империй просто не имеют отношения.
В этом столкновении полуосознанных противоречивых верований мы должны тщательно выбирать себе путь в поисках того, что мы готовы принять в качестве свидетельства. На наших глазах люди ведут спор за свою жизнь — христиане с язычниками, язычники с христианами. Особенно печально то, что большая часть этой антихристианской полемики погибла. Она не интересовала средневекового переписчика, и, в результате, она исчезла. Пергамент, папирус, надпись, легенда, монеты и другие виды свидетельств сходятся воедино, чтобы поведать одну и ту же историю; но это ужасающе ненадежное дело.
У нас никогда нет уверенности в том, что же именно тогда происходило. Но зачастую мы можем высказать предположение, каково было мнение современников о происходящем. Мы можем увидеть, что материальные бедствия их времени обострили, а не вызвали у них чувство неудовлетворенности как классическим, так и христианским объяснением функции человека в обществе.
Некоторые утверждали, что античность умирает, а другие, что нет; одни — что христианство и классическая культура прекрасно сочетаются друг с другом; а другие, включая некоторых христиан,— обратное. История этого времени состоит, скорее, в факте этого спора, чем в его результате.
И вот на этот мир обрушились гунны.
В течение третьего века н. э. в юго-восточной Европе возникли две варварские конфедерации. Письменные источники не сообщают нам о них почти ничего, а археология немногим больше. По крайней мере нам известно, что обе включали племена восточногерманских народов — народов, за плечами которых была долгая история миграции [5] К западным германцам (которые во времена Тацита занимали район Одера-Эльбы) относятся франки, аламанны, саксы, фризы и тюринги. Восточные германцы (которые отличались от западных по своему языку и обычаям и жили к востоку от Одера) — это готы, вандалы, бургунды, гепиды и лангобарды. Третья, северная, группа — скандинавы — так и не покинула своего дома.
. Это были древние народы с устоявшимися обычаями и сложными традициями; это были варвары, но не дикари.
Читать дальше