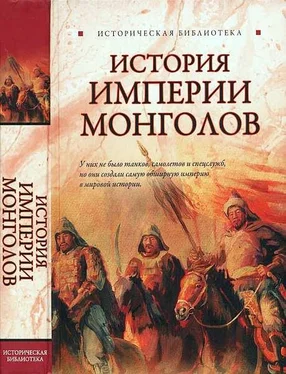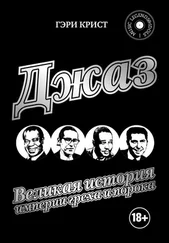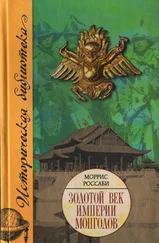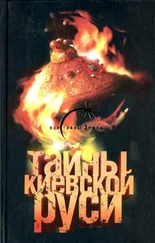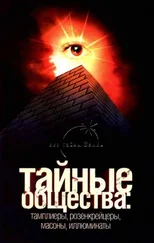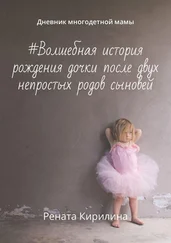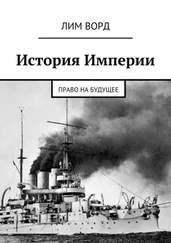Из войска Берке не уцелел ни великий, ни малый и (почти) весь народ был перебит; остальные, потерпев поражение, обратились в бегство. Хулагу-хан не дал (своему) войску позволения вернуться, и они (его воины) без стеснения стали переправляться через поверхность замерзшей реки.
Таким образом, день за днем, стоянки неприятелей становились привалами ильханского войска. Когда оно (наконец) расположилось на равнине владений царевича (Берке), то у Берке-огула, вследствие поражения и расстройства его войска и победы и торжества государя, истребителя врагов, запылало пламя гнева. Он отдал приказание, чтобы все войско, из каждого десятка по 8 человек, село на коней и принялось за состязание и борьбу. Они неожиданно нагрянули на войско ильхана, преградили им путь улаживания и примирения и отверзли длань произвола, чтобы пространство своих областей очистить и освободить от бедствий захвата и насилия чужеземцев. Прогнав их, они несколько переходов гнались вслед (за ними).
Когда государь, сожигатель врагов (Хулагу), ушел в свой стан благополучия, он приказал казнить всех ортаков Берке-огула, занимавшихся в Тебризе торговлею и коммерческими сделками и владевших бесчисленным и несметным имуществом, и отобрать (у них) в казну имущество, какое найдется».
Это называется: когда паны дерутся, у мужиков чубы трещат!
Хуже всего от дележки спорных земель было жителям этих земель: Берке, отвечая на вероломство, умертвил купцов с вражеской стороны. Дело дошло до того, что в спорных землях пришлось срочно переписывать население, чтобы понять, кто относится к джучидам, кто к хулагаи-дам. В Бухаре обнаружилось 5000 человек из улуса Джучи.
«Эти 5000, — повествует Вассаф, — принадлежавшие Бату, вывели в степь и на языке белых клинков, глашатаев красной смерти, прочли им смертный приговор. Не были пощажены ни имущество, ни жены, ни дети их. Так как перед глазами разума разостлано правило, что „и любовь наследственна, и ненависть наследственна“, то после смерти Берке-огула, сын его, Менгу-Тимур, заступивший место его, разостлал с Абака-ханом ковер старинной вражды. Между ними несколько раз происходили нападение и отступление (т. е. стычки).
Однажды 30 000 всадников мечебойцев и дротикометателей, принадлежавших Абака-хану, во время возвращения и переправы через реку, когда льдины разломались, все утонули и погибли, отпечатав на поверхности льда результат дней (своей) жизни. После этого Абака-хан, когда ему стали известны многочисленность (джучидского) войска и его отвага, построил с этой (ильханской) стороны Дербенда стену, называемую Сибе, с тем чтобы дальнейшее вторжение и притязание этого смущающего мир войска стало невозможным. Эта вражда была постоянною и продолжительною, а избегание между обеими сторонами оставалось до времени царствования Гейхату-хана».
В 1269 году соперникам удалось договориться. Так возникло Ильское государство во главе с Кайду. После смерти Кайду тому наследовал Тува, за ним — Чопар. Споры между потомками хана от разных детей продолжались.
В начале XIV века за Хорезм бились Кутлуг-Тимур и Баба-огул, снова страдали местные жители: Баба взял приступом хорезмийские городки, и как пишет хронист о его делах — «опустошил, разорил, жег, топил и грабил». «Мужчин подвергали всевозможным истязаниям, — повествует очевидец, — а с женщинами, в присутствии мужей, не упустили ни минуты сотворить всяческие бесчинства. Около 700 человек имамов и шерифов убежало в минарет. Тогда он приказал наложить внутри минарета большое количество дров, и поджег, так что из страха перед огнем отец сбрасывал сына с минарета».
Явившийся на помощь Урек-Тимур (сын Тука-Тимура) отбил у Бабы пленных общим числом 50 000 человек, таковы были обычные масштабы страданий для народа — нагие и измученные, они почли за счастье разбежаться и попрятаться от обеих дерущихся сторон. Но радоваться «спасению» от войска Бабы было рано: после этого боя Хорезм снова перешел к джучидам (Баба-огул был из дома Джучи). Это значило одно: теперь пленить, топить, пустошить и грабить будут противники хана Узбека. Хорезм в те времена считался очень привлекательной добычей, и не случайно.
По рассказу путешествующего по Средней Азии Ибн Батуты, «…это самый большой, значительный, красивый и величавый город тюрков с прекрасными базарами, широкими улицами, многочисленными постройками и впечатляющими видами. В городе кипит жизнь, и из-за столь большого числа жителей он кажется волнующимся морем».
Читать дальше