И проказ же наш Ефимко,
Рыцарь сказочных чудес,
Умудрился невидимкой
В сказке жить — всегда и весь...
Он — рыцарь искусства. Рыцарь красоты. Рыцарь народа, деревни, которой прослужил всю свою жизнь. Ради нее он отказывался быть «поставщиком для городских музеев и театров», создавать себе имя, выставляя работы на «Мир искусства», как советовал И. Репин, в Парижском салоне. «Считаю свои вещи не туда относящимися, — замечает он. — Цели не те...»

Е. Честняков. Феи. До реставрации.
В набросках одного из драматургических произведений Честнякова художник Радугин (несомненно, автобиографический персонаж) беседует с вымышленным царем Форараем.
Ц а р ь. Поступай придворным художником к нам. Все тебе будет: роскошное помещение, поезжай куда хочешь, бесплатно, и делай что желаешь в своем художестве...
Р а д у г и н. Если б при нашем селенье... У меня тут многолетнее дело.
Он не мог изменить той «великой братии», которая стояла за ним — крестьянам. И не хотел, хотя и мог, зарабатывать, обслуживая их рисованием портретов. Он был художник с «богатым жизненным содержанием души», которая не допускала «оскудения и глухоты к окружающему миру», постоянно требовала «свежей струи жизни» и «впечатлительного к ней интереса». «Чтобы работать так деликатно, как искусство, надо жить, кипеть светлым, светлым ключом», — писал художник.
Вдумаемся в его раздумья об искусстве наедине с листом. «Я знаю, ты не любишь тех, кто, кроме тебя, ничего в жизни не знал: они ничем для тебя не жертвуют, ничего тебе не приносят, — ведь они только тебя знают, — они скучны, наивны, бессодержательны, для тебя неинтересны. Ты не любишь и тех, которые живут и тобой и другим, не хотят для тебя жертвовать всем: недостаточно любят и понимают тебя; ты видишь, что недостойны они и им не открываешь себя. Ты любишь только того, только тому открываешь красоту свою несказанную, кто знает все, и от всего для тебя отрекается — так сильно он любит и ценит тебя: потому что ты прекрасно как жизнь».
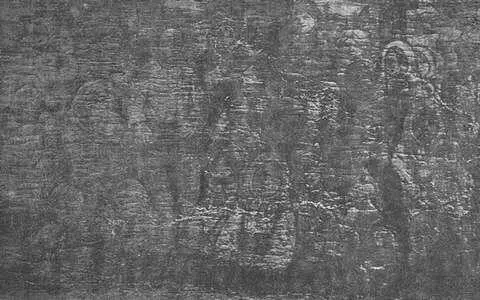
Е. Честняков. Слушают гусли. До реставрации.
Отсюда его отреченье, и не только от карьеры художника, которую он вполне мог себе обеспечить. От самого насущного. Его бескорыстие и преданность искусству столь велики, что кажутся порой неправдоподобными, может быть, даже излишними, если учитывать ту постоянную нужду, в которой жил художник. Стоит задуматься об этом. Не хватало средств не только на покупку красок, кистей и других материалов, но даже на пропитание, и он никогда, ни разу в жизни не продал ни одного своего холста. В письме И. Касаткину объяснял: «Продавать нельзя, они не продажны ни за все сокровища мира... Они не имеют цены, потому что они не шаблон в торговле...» Продажа, считал художник — это «неуклюжее в отношениях между людьми наследье старины... И пригодно только относительно простейших предметов... Есть вещи, которые и оценивать невозможно...» И все это в то время, когда признанным считался художник, картины которого покупались.
Для Ефима Честнякова все, что он создал как художник, было единым, неделимым миром, который мог существовать только в своей целостности. Изъять (читай: продать) что-либо одно — означало разрушить «предмет деятельности по причине удаления относящегося к ней». Каждый холст, каждая глинянка были для него не только продуктом, произведением его рук, но и средством в той большой работе, которую он проводил в деревне: «вроде того, как пахарю нужна соха... музыканту — скрипка...»
Все должно было, по замыслу художника, служить делу, той универсальной культуре, над которой он работал. Он был рыцарем своего труда.
С новой силой это проявилось в послереволюционные годы. Революция окрылила художника новой красотой. Настало то долгожданное время, о котором он мечтал и которое как мог приближал своим искусством. Честняков пишет в послании «Собранию волостных представителей»:
Свободны мы, цепей уж нет,
Сияет над страной невиданное утро,
И солнце новое, повсюду виден свет...
И люди все иные уж как будто...
«Пусть дадут помещение, материалы: я буду рисовать новую Россию!» Поддержать молодую республику, помочь ей встать на ноги он призывает других и прежде всего отдается этому сам. Новым смыслом наполняется для него его собственный принцип: «Труд готовый не бери, свой как новое дари». Строить новую жизнь, пусть «с шалашки», но самим, не рассчитывая на готовое, организовать культурное строительство — «человек в культуре ненасытен», перестроить школьное образование — во всем этом для художника открывается новая красота, наполненная неведомым ранее смыслом — все для народа, его совершенствования, его счастья.
Читать дальше


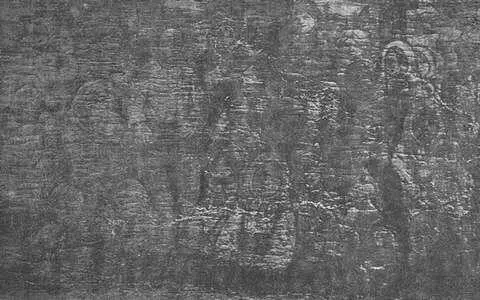



![Георгий Юдин - Спасенная душа [Рассказы. Сказки. Притчи]](/books/388695/georgij-yudin-spasennaya-dusha-rasskazy-skazki-pri-thumb.webp)






