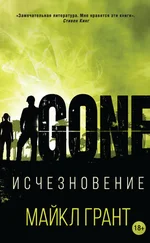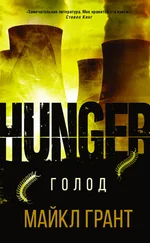Это говорит о том, что торговлей все-таки занимались, пусть в скромных масштабах, представители всех сословий древнейшей Греции. И эта деятельность вынуждала жителей разных полисов объединяться. Но любое сотрудничество с гражданами чужого государства, должно быть, оставалось неохотным, потому что саму суть отношений между различными
греческими общинами составляло столкновение. Глубочайшая поглощенность каждого полиса собственной внутренней жизнью обычно сопровождалась, как нам известно, неспособностью ужиться с соседним полисом — или даже, в течение долгого времени, с любым другим полисом. Осознание греками своего затруднения, яствовавшее из многочисленных попыток предотвратить или смягчить вражду, и то обстоятельство, что уже к 600 г. до н. э. некоторые правительства обзавелись постоянными представителями (πρόξενοι) в столицах других государств, — едва ли меняло что-либо к лучшему. Как позднее неутешительно указал Платон, в греческом мире «от природы существует вечная непримиримая война между всеми государствами» 30.
Местные войны редко заканчивались гибелью целых государств, так как воины-победители не могли надолго отлучаться от своих земель и своих хозяйств. Поэтому все пришли в ужас от неслыханной жестокости кротонцев, разрушивших Сибарис. Тем не менее межполисные войны почти не прекращались; они ослабляли воевавшие государства, неся ущерб и опустошение. Странное дело: почему такой разумный народ, как греки, оказался столь воинственным и столь безрассудным в обращении с соседями-сородичами? Греки воевали между собой, так как им не хватало богатств, необходимых для достижения самодостаточности, к которой стремился каждый полис; следовательно, столь необходимые блага нужно было по возможности отобрать у другого государства силой.
Это явление было тесно связано с другим — а именно, глубоко укорененной в сознании греков и чрезвычайно острой тягой к соревнованию, состязанию — агону (άγων). Примером этого чувства служит упоминание в Илиаде о том, как Пелей, отец Ахилла, заповедовал сыну «тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться» 31. Внутри огражденного полисного мирка эта повсеместная состязательность среди граждан, которую подстегивали извне сходные дерзания со стороны всех прочих, порождала бурную деятельность и приносила немало пользы. Когда же соревновательный дух перекидывался на отношения между целыми полисами (а именно так оно и было), он сеял раздробленность и разобщенность, причем сеял постоянно, и на деле это оборачивалось своего рода «вольной борьбой» между государствами.
При таком положении вещей каждый город был вынужден обзаводиться военной мощью, что привело к так называемому «гоплитскому перевороту», в котором ведущее место заняли Аргос, Халкида и Коринф. Гоплиты — тяжеловооруженная пехота — сменили прежние, не столь сильные, войска, где главная роль принадлежала «всадникам» и лошадям (последних, впрочем, почти везде оказывалось недостаточно, кроме Италии, Фессалии, Эвбеи и Кирены) 32. Доспехи гоплита состояли из шлема с пластинами, защищавшими нос и щеки (впервые появились в Коринфе), нагрудника или панциря (Халкида) и поножей. Все это делалось из бронзы 33, а техника изготовления была заимствована отчасти с востока, отчасти из центральной Европы. Главным орудием защиты пехотинцев был тяжелый бронзовый щит, круглый или овальный (Аргос), который надевался на левую руку, а оружием служили короткий прямой железный меч (Халкида) и копье для выпадов длиной в 2,8 м.
Фаланга — строй, в котором сражались гоплиты, — как и их снаряжение, неоднократно изображалась на вазах. Это была плотно сомкнутая масса воинов глубиной в восемь рядов, продвигавшаяся вперед толчками (швюцо;), причем каждый воин защищал соседа. Эпоха героических деяний и единоборств, которую обессмертил Гомер, уже канула в прошлое: наступил век сплоченных, согласованных и упорядоченных действий, вершившихся не от лица собственного «я», а от лица государства, которому это «я» принадлежало.
Такой переворот повлек за собой и политические перемены. Военные новшества не благоприятствовали бедноте, потому что все гоплиты были обязаны оплачивать свое снаряжение, а для этого им требовалось обладать достаточным имуществом. Но хотя среди гоплитов наибольшим воодушевлением, пожалуй, отличалась знать, отнюдь не все эти воители имели аристократическое происхождение; в действительности им могла похвастаться лишь незначительная часть пехотинцев. В то же время именно эти люди, защитники государства, как заметил Аристотель, в конечном итоге контролировали его и задавали тон 34(например, требуя себе равной доли при дележе любой добычи). Таким образом, хотя своим возникновением гоплиты были обязаны знати, стремившейся обезопасить свое правление (и усматривавшей политическую целесообразность в том, чтобы эта воинственная роль выпала лишь относительно богатым гражданам), само возникновение этого воинского слоя постепенно привело к расширению правящего сословия за счет незнатного люда а тем самым и ускорило крах прежнего правления.
Читать дальше

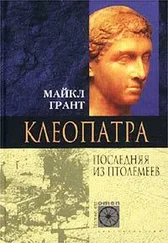
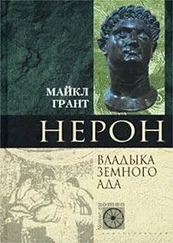
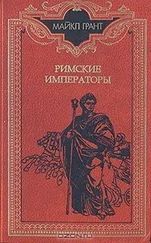
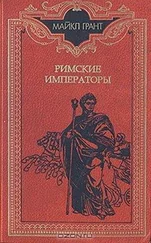
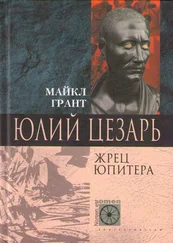
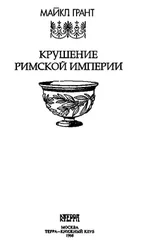
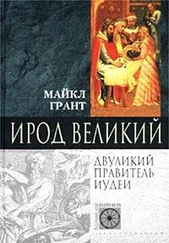
![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/398480/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o-thumb.webp)
![Майкл Грант - Голод [litres]](/books/410081/majkl-grant-golod-litres-thumb.webp)