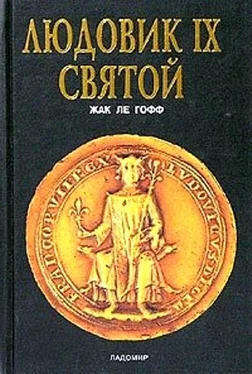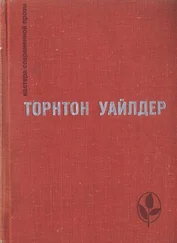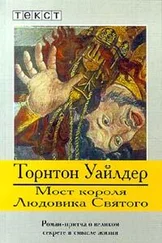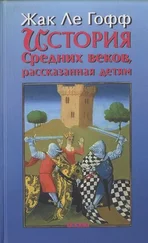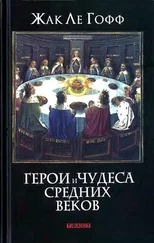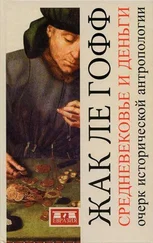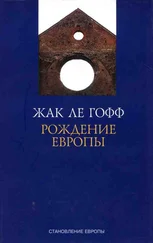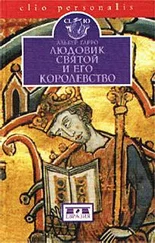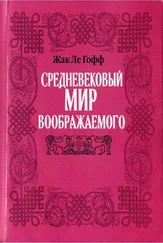Правда, проблема неопределенностей и противоречий жизни, встающая при попытке создания исторической биографии, модифицируется в случае Людовика Святого особыми характеристиками. Почти все современные ему биографы свидетельствуют в пользу некоего перелома, даже разрыва в его жизни — до и после крестового похода. До 1254 года мы имеем дело с обычным боголюбивым королем, ничем не отличающимся от любого короля-христианина. После этой даты перед нами — кающийся, эсхатологический суверен, готовящий себя и своих подданных к вечному спасению и с этой целью насаждающий религиозно-нравственный порядок в своем королевстве и одновременно мечтающий стать королем-Христом. Такое изображение жизни и царствования Людовика IX подчинено агиографической модели с ее поиском в житиях святых момента «обращения» и одновременно — модели библейской царской власти, превращая Людовика Святого в нового Иосию, царствование которого в Ветхом Завете состоит из двух частей — до и после нового обретения и нового воплощения Пятикнижия. Я сам выдвинул гипотезу, которая может подкрепить это положение о переломе 1254 года: я придаю огромное значение встрече Людовика, возвратившегося в тот год из Святой земли и высадившегося в Провансе, с одним францисканцем, проповедовавшим милленаристские идеи (призывавшим к осуществлению на земле непреходящих справедливости и мира по образу и подобию рая) [10], — братом Гуго де Динем. Но так ли уж отличается набожный король реликвий Страстей Христовых, приобретенных в 1239 году, суверен, назначающий в 1247 году ревизоров для исправления правонарушений, от законодателя, короля «великого ордонанса» конца 1254 года, насаждающего нравственный порядок в своем королевстве? Впрочем, описывая жизнь Людовика Святого, историк может хотя бы в чем-то избежать излишней надуманности благодаря тому, что его биографы, по обыкновению ученых и интеллектуалов ХIII века, обращались к трем типам аргументов, которые в их взаимном переплетении не допускают какой бы то ни было надуманности. Существуют авторитеты : Священное Писание и Отцы Церкви, что позволяет его биографам использовать библейские модели. Далее — доводы, порожденные методами новой схоластики. Наконец, третий тип — примеры ( exemple ), назидательные анекдоты, рассадники уймы общих мест; в примерах бурлит фантазия рассказчика, приводя в смятение строгость двух первых типов доказательства.
Главная проблема здесь в том, что, хотя источники не говорят об этом эксплицитно, создается впечатление, что давно, еще в ранней юности, Людовик IX, далекий от честолюбивого замысла стать святым, уже был как бы «запрограммирован» матерью и советниками и что сам он с юных лет планировал стать воплощением идеала христианского короля. С тех пор его жизнь стала добровольной и страстной реализацией этого плана. В отличие от У. Ч. Джордана, который (не без таланта и прилежания) видит в Людовике Святом короля, разрывающегося между королевским долгом и благочестием в духе нищенствующих орденов, я полагаю, что Людовик Святой с тем более незаурядным мастерством, что оно было доведено до автоматизма, ничтоже сумняшеся, соединил умозрительно и на практике политику и религию, реализм и мораль. Вы не раз убедитесь в этом, читая мою книгу.
Эта целеустремленность не лишает его биографию, в ее линейности, сомнений, затруднений, сожалений и противоречий в их согласованности с королевской правотой, о которой Исидор Севильский некогда сказал, что слово «царь» происходит от «справедливого правления» ( rех a recte regendo ) [11]. Людовик избежал драматических коллизий, но это вечное стремление стать воплощением идеала короля вносит в его биографию некую загадочность, от которой до сих пор захватывает дух. А впрочем, разве иные сведения не подносят нам зеркало, в котором образ святого короля причудливо искажен?
В работе над биографией Людовика Святого мне удалось избежать непреодолимых трудностей потому, что я быстро справился с еще одной сложной проблемой: с мнимым противоречием между индивидуумом и обществом, несостоятельность которого доказал II. Бурдье. Индивидуум существует лишь в переплетении многообразных общественных отношений, и именно это многообразие позволяет ему реализоваться. Знание общества необходимо, чтобы увидеть, как формируется и живет индивидуум. В моих предыдущих трудах я занимался изучением двух новых социальных групп, появившихся в ХIII веке: купцов, что вывело меня на проблему взаимодействия экономики и нравственности, — проблему, с которой столкнулся и Людовик Святой; и университетских преподавателей, которых я раньше называл «интеллектуалами» [12]. Эти последние занимались подготовкой кадров с высшим образованием для церковных учреждений, а также, в чем я не так уверен, — для светских властей. Кроме того, они выдвинули третью власть — власть институционализованного ведения ( studium ), занявшую место рядом с властью церковной ( sacerdotium ) и властью государевой ( regnum ). С интеллектуалами, этой новой властью, Людовик общался мало. Наконец, я занимался изучением членов более многочисленного общества, обретавшегося в новом месте загробного мира; оно было открыто как раз в ХIII веке: мертвые в чистилище и их отношения с живыми [13]. Ибо Людовик Святой не порывал со смертью, мертвыми и загробным миром. Таким образом, социальный пейзаж, в котором жил святой король, был мне неплохо знаком. Мне даже удалось выявить то, что на его жизненном пути было и обычного и необыкновенного, ибо вместе с ним я поднимался на вершину политической власти и возносился в рай.
Читать дальше