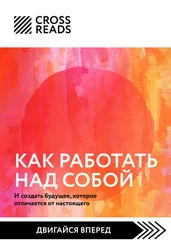В плане морали «новый низший класс», который начал формироваться именно в счастливые 1960-е, отделяет себя, как отмечает ряд социологов США, от традиционных американских ценностей (как мы увидим позднее, то же происходит со значительной частью «нового высшего» (upper) и «вышесреднего» (upper middle class) классов. Речь идет о таких ценностях, как трудолюбие, честность, вера и, конечно же, крепкая семья (отсюда — ценность брака и неработающая женщина в качестве жены, хозяйки и матери как идеал). В начале 1960-х годов приоритет этих ценностей, особенно семьи, был ярко выражен. Так, в 1962 г. журнал «Saturday Evening Post» опубликовал данные опросов Гэллапа по отношению женщин к браку и карьере. 1813 женщинам в возрасте от 21 года до 60 лет задавали вопрос: «Кто счастливее — девушка, ставшая женой, ведущая хозяйство и воспитывающая детей, или девушка, делающая карьеру?». 96 % опрошенных высказались в пользу жены как матери и хозяйки — это при том, что в 1960 г. около 40 % белых женщин уже вынуждены были работать. Идеальным возрастом для вступления в брак подавляющее большинство женщин назвали 21 год и только 18 % — 25 лет. Сам же брак считался естественным состоянием людей.
С 1970-х годов ситуация начала меняться, число американцев, состоящих в браке, стало снижаться, а количество женщин, выбирающих карьеру в ущерб семье, — увеличиваться. Качественный скачок социологи фиксируют между 1977 и 1981 гг.: в эти годы число неженатых/незамужних достигло почти трети белого населения в возрасте от 21 года до 60 лет. Число работающих белых женщин к 1990 г. выросло до 74 %, в 2008 г. эта цифра снизилась до 70 % и с тех пор держится примерно на этом уровне. Отчасти все это объясняется ухудшением экономической ситуации, заставившей женщин идти работать, отчасти — разгулом феминизма, отчасти феноменом и модой юппи.
Растет и число разводов, равно как и детей, рожденных вне брака, особенно в небелом сегменте нижнего слоя — менее образованном, многие представители которого предпочитают жить на пособие даже тогда, когда можно получить работу. Еще одно явление Ч. Марри и другие социологи называют unbelievable rise in physical disability. Речь здесь идет не о физической неспособности (например, по инвалидности) к труду, а об ином — о неприспособленности/неспособности к трудовой деятельности по социальным и психологическим причинам. Жизнь на пособие, с одной стороны, и возможность подработки на криминальной или полукриминальной «ниве» породили целый слой лиц, семьи которых не работают уже в течение 2–3 поколений, т. е. нетрудовые или даже антитрудовые установки закреплены филетически (речь идет о формировании устойчивого поведенческого типа на уровне социальных инстинктов, на стыке социального и биологического в результате систематического социального, политического и психологического воздействия на группу или даже на всю популяцию в течение нескольких десятилетий). Подрыв таких ценностей как труд, трудолюбие теснейшим образом связан с верой и честностью.
Когда рушится мораль, жизнь в нижней части общества становится борьбой за выживание без правил. В свое время это блестяще показал практически неизвестный у нас американский социолог Э. Бэнфилд. В середине 1950-х годов он написал книгу «Моральная основа отсталого общества» («Moral Basis of Backward Society»). Бэнфилд исследовал общества, переставшие быть крестьянскими, но оставшиеся аграрными, т. е. крестьяне, разорившись, лишившись земли и собственной общинной организации, превратились в арендаторов и батраков. Это — сельский аналог городского «низшего класса» Америки и других стран. Посткрестьянские страны расположены на обочине капиталистического мира, т. е. на его периферии и полупериферии. Бэнфилд исследовал Сицилию и ряд районов Ирландии и Мексики. Результаты своего исследования он оформил как описание Монтеграно — вымышленного городка в сельской местности.
Доминанту поведения и морали жителей городка Бэнфилд назвал «аморальным фамильизмом», т. е. установкой на максимальное увеличение краткосрочных материальных преимуществ семьи по отношению к другим семьям, в основе этой установки уверенность в том, что все остальные руководствуются аналогичной «моралью». Иными словами, речь идет о такой ситуации, когда люди в борьбе за выживание превращаются в некое подобие социальных крыс, крысолюдей, по сути выталкивающих друг друга из жизни.
3
В последние 10–15 лет, особенно после кризиса 2008 г. на Западе начала формироваться новая группа — на грани «низшего класса» и «андеркласса» — прекариат (от «precarious» — хрупкий, случайный, рискованный, не имеющий под собой твердого основания, зыбкий). Речь идет о большой группе лиц, получающих временную работу, иногда на несколько часов в день, причем далеко не каждый день. Иногда наем имеет целью подправить показатели занятости — в некоторых странах человек, отработавший хотя бы один день в месяц, уже не считается безработным. Прекариев, строго говоря, нельзя считать ни работающими, ни безработными, это политэкономический мутант эпохи позднего, умирающего капитализма. Это люди случайного заработка, возведенного, однако, в систему; в известном смысле, случайные люди — само их существование для Системы необязательно, и их бытие действительно обладает неизъяснимой легкостью, а точнее, хрупкостью. Прекарии существуют вне социального времени данной Системы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
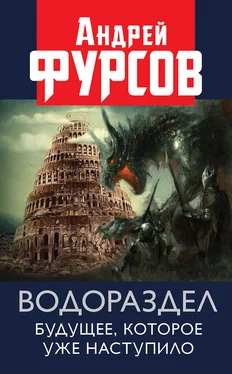


![Андрей Фурсов - Мир «Игры престолов» — это мир подлости, разврата и жестоких пыток [«Игра престолов» как проект будущего]](/books/414278/andrej-fursov-mir-igry-prestolov-eto-mir-podlo-thumb.webp)