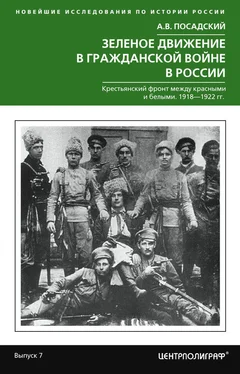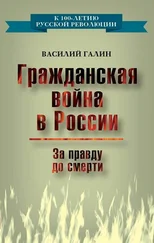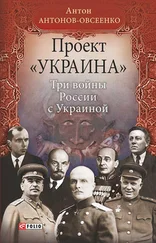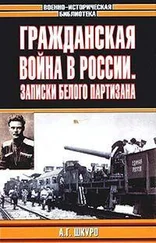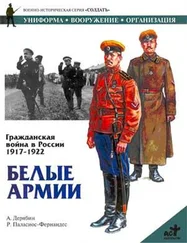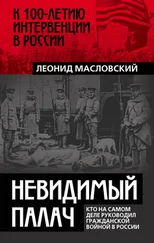Н.Н. Покровский и С.Г. Петров справедливо указали на то, что бытующее в литературе число 1414 кровавых инцидентов при изъятии церковных ценностей — это данные из «живоцерковной» среды, которые до сих пор не проверены и не конкретизированы 506. Истинная картина с массовыми выступлениями на религиозной почве пока не нарисована. В марте 1918 г. в Городке Витебской губернии произошло массовое возмущение, по определению советских властей, «церковное восстание» против учета церковных ценностей и имущества. Его поддержали шесть волостей уезда, в них также на видных ролях оказались «церковники». Восстание было подавлено, но оставило крепкую традицию церковно-политического сопротивления. Не подвергшиеся репрессиям участники образовали уже в 1920-х гг. «своего рода братство», церковная жизнь стала постепенно уходить в подполье. Так, до 1938 г. на территории уезда нелегально проживал и окормлял паству настоятель Невельского монастыря архимандрит Иоанн (Моисеев). Интересно, что дело о Городокском восстании расследовало в 1933 г. ОГПУ. Результатом восстания стало «сплочение религиозно настроенных людей в крепкие приходские общины, ставившие себе задачей организацию и устройство церковной жизни при любом правительстве» 507. В 1919 г. и позднее Городокский уезд весьма активен в зеленом и бандитском движении. Уместно поставить вопрос о соотношении мотивов протестного движения, роли в нем религиозной мотивации.
Уральская глубинка с 1918 г. полнилась слухами о спасении членов царствующего дома. Отсюда слухи и вызываемые ими новые изводы самозванчества распространялись и на восток, на Алтай, и на запад, в центральные районы. Церковно-монархическая организация была вскрыта в 1931 г. в районе Ржева и Сычевки. По делу ржевской организации прошло в 1931 г. 74 человека, в том числе 40 представителей клира и монашествующих. Что интересно, эта организация якобы возникла вскоре после Октября, отличалась прочной внутренней структурой (управлял делами приходский совет ржевского собора, имелся военный руководитель и т. п.), радикальным неприятием советской власти, верой в спасение членов дома Романовых. Представляется интересным исследовать связь этой организации, просуществовавшей много лет со времени революции, с активными зелеными в тверских и смоленских местах в 1919 г. и позднее, которые эта организация охватывала. Наверняка связи были, и, возможно, весьма крепкие и структурированные 508. Можно предположить, например, какие-либо пересечения с годами неуловимым бароном Кышем.
Свои контакты у зеленых неизбежно возникали с многочисленными мешочниками. Огромная социальная роль мешочников была очевидна наблюдателям, о месте мешочничества в снабжении страны четко написал такой авторитет, как Н.Д. Кондратьев: «…с конца 1917 г. мешочничество получает чрезвычайно глубокие социально-экономические корни: оно является формой напряженной и долгой борьбы народных масс за самое дорогое, что они имеют еще у себя, — за свою жизнь. Имея столь глубокое основание, мешочничество играет очень значительную роль в снабжении населения хлебом, более значительную, чем органы государства. Причем мешочничество, зародившись с конца весны 1917 г., быстро усиливалось. Работа же государственной продовольственной организации под влиянием общих социально-экономических и политических условий, а частью под влиянием самого развивающегося мешочничества, деградировала. Лишь в 1919 г. наметился новый перелом в сторону усиления организационной мощи государственного продовольственного аппарата» 509. Теневой рынок с 1919 г. резко профессионализируется, наращивает обороты, рынки становятся подобием ярмарок прежних периодов русской истории 510. Мешочники с 1917 г. и на протяжении всего периода военного коммунизма являлись важным фактором конфронтации власти и крестьянства. Организованные и вооруженные, они нередко давали отпор заградительным отрядам, численность которых на важных станциях подчас оказывалась сопоставимой с фронтовыми частями Красной армии. Мешочников часто поддерживали окрестные крестьяне, так что они выступали как авангард крестьянского сопротивления большевистской политике 511. Ф.А. Степун передает рассказ о мешочнической поездке своего знакомого после декрета о разрешении провоза двух пудов хлеба из хлебородных губерний. Он на обратном пути «попал в жестокую свалку, почти что в сражение, между народом, везшим домой закупленный хлеб (кое у кого оказались в мешках спрятанные винтовки), и заградительным красноармейским отрядом, отбиравшим не только излишки, но в штрафном порядке и разрешенные два пуда на семью». За хлебом ездили, кроме городских профессионалов, в основном старики и девки, так что бой был неравным. Однако «мешочники» дрались храбро. Помогал им тайный союзник: сочувствие красноармейцев, в глубине души понимавших, что они делают неправое дело, так как не может быть такого закона, чтобы народ помирал с голоду». Знакомый Степуна смог привезти свои два пуда, но вернулся таким измученным, что семья решила поездки прекратить 512. Действительно, красноармейцы, не сочувствуя политике разверстки, могли помогать мешочникам, раздавать обратно реквизированный хлеб 513.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу