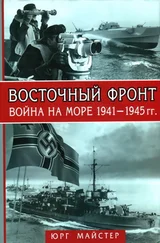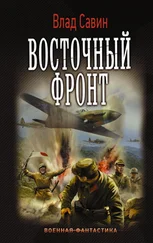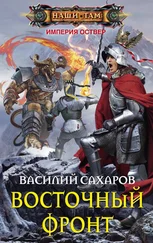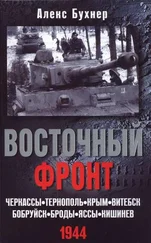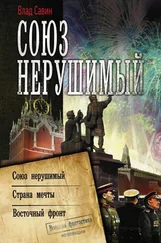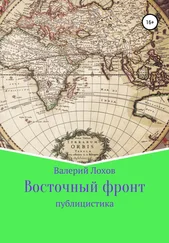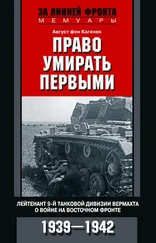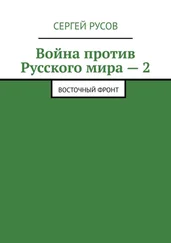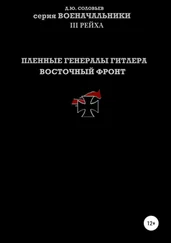Удалось зацементировать и более глобальные спорные образы. Во–первых, сам вермахт в целоми его командование в частности преподносились как жертвы Гитлера в историческом смысле. Как минимум они были слепым орудием его произвола, как максимум же всегда протестовали из–за преступлений, организовали сопротивление, дошло даже до покушения на фюрера. Это было лукавство: конечно, вермахт не был однороден и в нем были представлены разные мнения, но на высшем уровне большинство генералов вполне осознанно следовало руководящей линии, да и к участникам заговора 20 июля 1944 г. сами пишущие относились в лучшем случае амбивалентно, в худшем — как к предателям [22] Об отношении к антигитлеровской оппозиции см.: Lockenour J. Soldiers as Citizens: Former Wehrmacht Officers in the Federal Republic of Germany, 1945–1955. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2001. P. 153ff.
. Во–вторых, генералам удалось отделить историю войны от смысла нацистской войны, т. е. от расширения сферы власти нацистов в целом и чаемого «жизненного пространства» в частности, от защиты политического строя и всего, что он предполагал. Немецкие солдаты и офицеры «просто» сражались в отрыве от режима, который дал им в руки оружие и указал направление стрельбы. Всё это подавалось как «служба своему народу», «защита Родины» — какой родины, не уточнялось. Цели войны обозначались отдельно и назывались «гитлеровскими целями». Гитлер при этом представал, конечно же, упертым дилетантом, который вставлял палки в колеса и танковые гусеницы. Банальные прогнозируемые факторы вроде морозов и бездорожья, усложняющие любую войну, сыграли, с точки зрения генералов, ключевую роль в их поражении. Сами же они оставались безгрешными.
Ситуация начала меняться только в середине 70–х гг., когда в Германии появилось новое и весьма критично настроенное поколение молодых историков, которым были безразличны или даже неприятны свершения их собственных отцов. Выдержав тяжелые дискуссии 80–х гг., известные как Historikerstreit («спор историков»), и обсуждения, вышедшие за границы чисто академической сферы, пройдя через череду новых работ, показывавших полноценное участие армейских структур в оккупационной политике и в войне на уничтожение на востоке, германское общество столкнулось с необходимостью признать фактическое положение вещей уже становившегося далеким прошлого [23] Среди прочих ранних и поздних работ см.: Streit С. Keine Kameraden: die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945. Stuttgart: Deutsche Verlags—Anstalt 1978; Schulte T. 3. The German Army and Nazi Policies in Occupied Russia. Oxford; New York, 1989; Vernichtungskrieg — Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944/ hrsg. von H. Heer, K. Naumann. Hamburg: Hamburger Edition, 1995; Römer F. Der Kommissarbefehl: Wehrmacht und NS-Verbrechen an der Ostfront 1941/42. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2008.
. И оно нашло в себе силы сделать это, хотя пилюля была очень и очень горькой; пожалуй, это один из немногих примеров, когда академические споры в кругу специалистов–интеллектуалов оказали прямое влияние на целую страну [24] О послевоенных дискуссиях и памяти в немецком обществе см.: Борозняк А. И. Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй половины XX и начала XXI века. М.: Политическая энциклопедия, 2014.
. На удивление долго продержавшийся миф о «чистом вермахте» рухнул [25] Кауганов Е. Выставка «Преступления вермахта» 1995–1999 гг. и ее вклад в немецкую культуру памяти о нацистском прошлом // Журнал исследований социальной политики. 2015. Т. 13. № 3. С. 421–436.
. Его основные создатели на тот момент были уже давно мертвы — в лучший мир они ушли с полным убеждением в собственной правоте и с уверенностью, что будущие поколения будут учить историю войны в их интерпретации.
Литература «утерянных побед»
Помимо строго очерченных рамками одной темы текстов, многие из участников американо–германского исторического проекта впоследствии написали свои собственные мемуары, перенеся на бумагу опыт поражения, поданный через вышеописанную идеологизированную оптику. Вышедшие в 1955 г. мемуары генерал–фельдмаршала Эриха фон Манштейна «Утерянные победы» (уже само название весьма символично) можно считать одним из наиболее типичных примеров такого рода литературы.
И в ФРГ, и в ГДР, и в СССР социум был глубоко травмирован опытом насилия и разрушений: психологические последствия трагедии 1939— 1945 гг. были долговременными, а незатянувшиеся раны в ткани общества отравляли жизнь даже спустя много лет после сокрушения нацизма [26] Об условиях жизни и борьбе за свои права советских ветеранов см.: Dale R. Demobilized Veterans in Late Stalinist Leningrad: Soldiers to Civilians. London; New York: Bloomsbury Academic, 2015. Об опыте германских ветеранов и их возвращении в общество см.: Goltermann S. Die Gesellschaft der Überlebenden. Kriegsheimkehrer und ihre Gewalterfahrungen im Zweite Weltkrieg. München: Deutsche Verlagsanstalt 2009; Wienand C. Returning Memories: Former Prisoners of War in Divided and Reunited Germany. Rochester, New York: Camden House, 2015.
. Накаленные дискуссии о войне и вермахте играли большую роль в печатно–радийном противостоянии двух Германий — частей разорванной напополам поражением страны [27] Об участии генералов вермахта в этих дискуссиях см.: Searle А. Wehrmacht Generals, West German Society, and the Debate on Rearmament 1949–1959. Westport, CT: Praeger, 2003. О спорах и исторической памяти в ФРГ и ГДР см.: Morina С. Legacies of Stalingrad: Remembering the Eastern Front in Germany since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
. Бывшие чины вермахта служили в армиях молодых государств, а именно в бундесвере и Национальной народной армии ГДР [28] О бывших офицерах вермахта в рядах бундесвера см.: Pauii F. Wehrmachtoffiziere in der Bundeswehr: das kriegsgediente Offizierkorps der Bundeswehr und die Innere Führung 1955–1970. Paderborn: Schöningh, 2010. О бывших офицерах в рядах ННА ГДР см.: Lapp Р. J. Ulbrichts Helfer: Wehrmachtsoffiziere im Dienste der DDR. Bonn: Bernard und Graefe, 2000.
. Военный институт ФРГ постоянно оглядывался на неудобное прошлое, пытаясь найти к нему подход, колеблясь между полным отрицанием, критичным континуитетом и необходимостью опираться на традицию [29] См.: Molt M. Von der Wehrmacht zur Bundeswehr: Personelle Kontinuität und Diskontinuität beim Aufbau der Deutschen Streitkräfte 1955–1966. Dissertation. Ruprecht–Karls–Universität. Heidelberg, 2007; Echternkamp J. Soldaten im Nachkrieg: Historische Deutungskonflikte und westdeutsche Demokratisierung 1945–1955. München: De Gruyter, 2014; Gedenkstätten des NS-Unrechts und Bundeswehr. Bestandsaufnahme und Perspektiven / hrsg. 0. von Wrochem, P. Koch. Paderborn: Schöningh, 2010.
.
Читать дальше
![Готхард Хейнрици Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици] обложка книги](/books/406940/gothard-hejnrici-zametki-o-vojne-na-unichtozhenie-v-cover.webp)