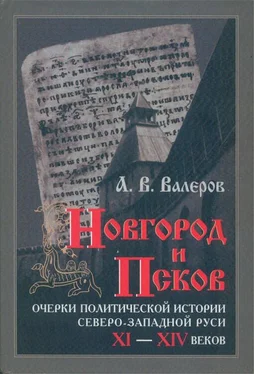Традиции изучения русского летописания, заложенные А.А. Шахматовым, в последние десятилетия были продолжены современными исследователями. Из наиболее значительных работ, посвященных новгородскому летописанию XIII–XIV вв., следует выделить публикации В.Л. Янина и А.А. Гиппиуса. В одной из своих статей В.Л. Янин обратился к рассмотрению источников Новгородской Первой летописи младшего извода. Проанализировав и сопоставив между собой список князей в Новгородской Первой летописи младшего извода и текст Новгородской Первой старшего извода за вторую половину XIII в., он пришел к выводу, что отсутствие в Синодальном списке записей за период конца 1272 — начала 1299 г. вследствие утери целой тетради соответствует лакуне в перечне князей в конце Новгородской Первой летописи младшего извода, откуда автор указал на тот факт, что именно дефектный Синодальный список был привлечен при составлении Новгородской Первой летописи младшего извода [769]. Однако в тексте последней на отрезке 70–90-х гг. XIII в. не обнаруживается «пробела» в статьях. Следовательно, по мысли В.Л. Янина, кроме Синодального списка среди источников Новгородской Первой летописи младшего извода была какая-то новгородская летопись «иной семьи», которая продолжала предполагаемый исследователем новгородский «Временник» (свод) 1204 г. [770]
Противником гипотезы В.Л. Янина выступил А.А. Гиппиус. В своей работе о сложении текста Новгородской Первой летописи он высказал мнение, что Синодальный список был использован составителем Новгородской Первой летописи младшего извода, однако ее текст в границах 1273–1298 гг. был заполнен не по летописи «иной семьи», которую усматривал В.Л. Янин, а на основании записей «во владычном своде летописца архиепископа Климента, пришедшего на смену Тимофею пономарю», причем этот владычный свод был «более полным и исправным, чем дошедший до нас в Синодальном списке» [771]. Полемизируя с В.Л. Яниным, А.А. Гиппиус подверг критике и построения А.А. Шахматова о прямом отражении старшего извода Новгородской Первой летописи в младшем изводе. Как считает А.А. Гиппиус, подкрепляя свою точку зрения не только текстологическими, но и кодикологическими изысканиями, нет надобности предполагать привлечение в значительном объеме Синодального списка для составления Новгородской Первой летописи младшего извода. Оба извода Новгородской Первой летописи независимо друг от друга использовали одну и ту же владычную летопись, что и объясняет схожесть их текстов. Из Синодального списка редактор Новгородской Первой летописи младшего извода взял лишь приписки, стоящие в его конце, которые своим происхождением обязаны летописанию Юрьевского монастыря, ведшемуся параллельно владычному [772].
Итак, несмотря на давность изучения состава Новгородской Первой летописи как старшего, так и младшего изводов и их взаимоотношения, в историографии высказывались различные, порой исключающие друг друга точки зрения. И тем не менее практически все авторы были единодушны в том, что новгородское летописание XIII–XIV вв., в том числе и за интересующий нас период, совместило в себе несколько летописных традиций, основными из которых были софийская владычная и юрьевская архимандритская. Естественно, это обусловило разные оценки событий внутриновгородской истории, прослеживаемые в тексте Новгородской Первой летописи. Однако — и это для нас самое важное — при описании внешнеполитических аспектов жизни Новгорода, а значит, и отношений со Псковом, новгородские летописцы, вне зависимости от своей принадлежности к той или иной летописной школе, были единодушны в своих взглядах.
Остается определить, какие из новгородских летописей являются наиболее информативными для освещения истории новгородско-псковских связей второй половины XIII — первой половины XIV в. Полагаем, что важнейшим источником и здесь остается Новгородская Первая летопись старшего извода как древнейшая из дошедших до нас. Вместе с тем ввиду наличия в ее тексте указанной лакуны, а также с учетом окончания записей Синодального списка на 1333 г. (с приписками на 1352 г.) необходимо обращаться к Новгородской Первой летописи младшего извода для реконструкции новгородско-псковских взаимоотношений, соответственно, в период 1272–1299 гг. и после 1333 г. (до Болотовского договора). Кроме того, целый ряд известий, отсутствующих в Новгородской Первой летописи, содержит поздние новгородские и общерусские летописи, восходящие к Новгородско-Софийскому своду первой половины XV в. — Новгородские Четвертая и Пятая, Софийская Первая и летопись Авраамки. В том числе в составе памятников Новгородско-Софийского цикла сохранился ценнейший текст Болотовского договора между Новгородом и Псковом, который отсутствует в Новгородской Первой летописи младшего извода.
Читать дальше