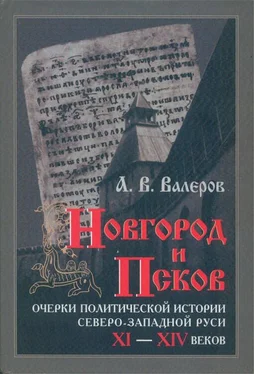Более традиционен в своих выводах А.С. Хорошев, для которого «именно со второй половины XIII в. начинается обособление Пскова от Новгорода», проявлявшееся в первую очередь в независимой «от интересов новгородского боярства» политике Довмонта [755].
Схожим образом определяют изменения в новгородско-псковских отношениях конца XIII — начала XIV в. Г.В. Проскурякова и И.К. Лабутина. При этом они усматривают не только начало процесса политического отделения Пскова от Новгорода, но и отмечают, что в княжение Довмонта Псков уже полностью стал самостоятельным государством. Об этом, в частности, по мнению авторов, свидетельствует тот факт, что все псковские летописи начинаются с текста Жития Довмонта, то есть для самих псковичей князь был символом псковской независимости. Официальное же признание своего суверенитета со стороны Новгорода Псков получил по Болотовскому договору, составление которого Г.В. Проскурякова и И.К. Лабутина относят не к 1348 г., а ко временам псковского княжения Александра Тверского [756]. Интересным, хотя и недоказанным, является предположение о влиянии самого Новгорода на процесс обретения Псковом суверенитета, что выражалось в дозволении новгородцами псковичам приглашать собственных князей [757].
Нетрадиционное прочтение истории Пскова в период княжения Довмонта попытался предложить С.А. Афанасьев. Исследователь отметил, что «вторая половина XIII в. ознаменовалась решающими успехами псковской общины на пути создания самостоятельной волости-государства», когда псковичи добились своей цели «в деле добывания себе собственного князя» [758]. С.А. Афанасьев подчеркнул, что Довмонт даже вмешивался во внутренние дела Новгорода. Однако выводы, изложенные автором, оказались опровергнуты им же самим. С.А. Афанасьев почему-то определил Псков конца XIII в. лишь как «нарождающийся» город-государство, а затем указал на то, что в политике Пскова «воля веча превалировала», хотя до этого была выделена самостоятельность и независимость деятельности Довмонта [759].
В отличие от С.А. Афанасьева, внутренней логикой и аргументированностью отмечена точка зрения В.Л. Янина. Развивая свою мысль о псковском суверенитете, сохранявшемся на протяжении нескольких столетий после 1137 г., В.Л. Янин предположил, что при Довмонте произошло лишь одно изменение в новгородско-псковских отношениях — взаимосвязь двух городов укрепилась, в первую очередь — в плане военного союза. Появление в Пскове неместных князей (например, Ярослава Ярославича)
В.Л. Янин объясняет тем, что они в этих случаях действовали не как новгородские, а как великие владимирские князья, которые стремились сохранить Псков в орбите великокняжеского влияния [760].
В полемику с известным ученым вступил В.А. Буров. Он считает, что в своих выводах В.Л. Янин не прав и что появление в Пскове князей «из литовской руки» хоть и вызывало настороженность у новгородцев в отношении возможного перехода Псковской земли под сюзеренитет Литвы, но все же не меняло вассальных обязательств Пскова перед Новгородом [761].
Для Ю.Г. Алексеева очевидны «явные признаки возрастания независимости Пскова от Новгорода», которые «относятся именно ко второй половине XIII в.». Как полагает исследователь, Довмонт — князь, не подчиненный Новгороду и не подверженный новгородскому влиянию [762]. В этом ученый оказался солидарен с С.А. Афанасьевым.
Аналогичных взглядов придерживается и А.Ю. Дворниченко. В его монографии, посвященной судьбам западных и южных русских земель после монголо-татарского нашествия, достаточно часто проводятся параллели между внутренним устройством Полоцка и Пскова. В связи с этим А.Ю. Дворниченко отметил, что вокняжение Довмонта — «новый этап в развитии псковского земства, когда оно стало испытывать потребность в сугубо своем князе». При этом исследователь подчеркнул, что, в отличие от Полоцкой земли, «самостоятельность псковской волости была еще недолгой, это волость молодая» [763]. Таким образом, рассуждения А.Ю. Дворниченко оказываются довольно традиционными в оценке значения княжения Довмонта в истории Пскова.
Как считает А.А. Горский, Псков в XIII — начале XIV в. признавал сюзеренитет великого князя Владимирского, но после событий 1322–1323 гг., когда «псковское боярское правительство заключило союз с Литвой», вышел из сферы влияния Северо-Восточной Руси. Великокняжеский суверенитет над Псковом был восстановлен сначала на короткий период 1337–1341 гг., а окончательно — с конца XIV в. [764]
Читать дальше