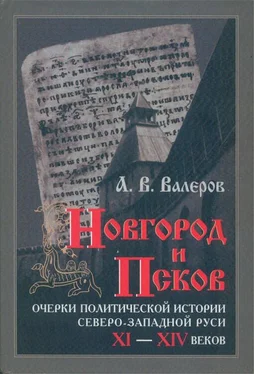Учитывая вышеизложенные обстоятельства, мы считаем возможным утверждать, что летописный рассказ о новгородско-суздальской войне 1216 г. еще раз доказывает, что в первой четверти XIII в. продолжал существовать лишь новгородско-псковский военный союз, но никакой зависимости Пскова от Новгорода не было.
Липицкая битва стала важным этапом во внутри- и внешнеполитическом развитии Новгорода. Прав И.Я. Фроянов, отмечавший, что «благодаря Липицкой битве Новгород не только удержал, но и укрепил свое положение главного города в волости, отстояв при этом ее территориальную целостность» [564]. Прежде всего были подавлены сепаратистские тенденции в Торжке и положен конец давним притязаниям Владимиро-Суздальской земли на господство над Новгородом. Однако все эти изменения ни в коей мере не затрагивали суверенитет Пскова. Псков не входил в состав Новгородской волости, а сам представлял независимое волостное объединение. Об этом, кстати, свидетельствует и тот факт, что псковичи выступили именно на стороне новгородцев, а не суздальцев, чего стоило бы ожидать в том случае, если бы Псков, как и Торжок, был новгородским пригородом, стремившимся избавиться от этой зависимости и выделиться в самостоятельную волость. Повторим, что участие Пскова в антисуздальской коалиции было обусловлено в первую очередь общностью внешнеполитических интересов с Новгородом в северо-западном регионе. В случае победы суздальцев над новгородцами вряд ли Псков сохранил бы свою самостоятельность. Поэтому псковичи в 1216 г. оказались верны своим союзническим обязательствам перед новгородцами. Вновь, как и в предыдущий период, проявилась эффективность такого политического объединения, как конфедерация, образованная в данном случае на основе союза Новгородской и Псковской волостей.
XIII век привнес, безусловно, новизну в характер новгородско-псковских взаимоотношений. Традиционно прочные связи между двумя крупнейшими городскими общинами Северо-Западной Руси в этом столетии неоднократно подвергались испытаниям, причем как со стороны внешнего воздействия, так и изнутри. Наступали моменты, когда межволостное противостояние Новгорода и Пскова становилось причиной резкого ухудшения отношений между ними, что вело к кризису союза.
Одним из таких этапов стали события конца 20-х — начала 30-х гг. XIII в. Они не остались незамеченными в отечественной историографии, однако на текущий момент нельзя утверждать, что характер отношений Новгорода и Пскова в это время изучен всесторонне. Исследователи XIX столетия ограничивались передачей канвы событий, пересказывая соответствующие летописные статьи [565]. Советские авторы и историки, работающие в настоящее время, сосредоточиваясь, как правило, на социально-политических аспектах истории Новгорода в период с 1228 г. по 1230 г., лишь вкратце дают обзор новгородско-псковским взаимосвязям [566]. Следует также отметить, что внутриполитическая история Пскова на рубеже 20–30-х гг. XIII в. до сих пор в историографии не становилась предметом специального изучения в связи с внутренней историей Новгорода.
Значительную роль в выяснении истинной сути произошедших изменений в новгородско-псковском союзе имеют летописные статьи, в которых описываются соответствующие события. Главный письменный источник в данном случае — Новгородская Первая летопись старшего извода, которая по сравнению с относительно поздними летописными памятниками — Новгородской Первой летописью младшего извода, Новгородской Четвертой летописью, Новгородской Пятой летописью, летописью Авраамки, а также Софийской Первой летописью, основывающими свое изложение в данном случае на повествовании как раз Новгородской Первой летописи старшего извода, содержит наиболее древний текст. Записи о событиях 1228 и 1232 гг. сохранились также в Псковской Третьей летописи (Строевский и Архивский 2-й списки [567]). Однако и ее вариант вторичен по отношению к Новгородской Первой летописи старшего извода. Как установил немецкий исследователь Г.-Ю. Грабмюллер, новгородские известия в Псковской Третьей летописи, отсутствующие в Псковских Первой и Второй летописях, были включены редактором XVI в., пользовавшимся текстом Новгородской Пятой летописи, передающей, в свою очередь, рассказ Новгородской Первой летописи старшего извода [568]. Следовательно, источником, на который мы будем опираться в своих построениях, является именно Новгородская Первая летопись старшего извода.
Читать дальше